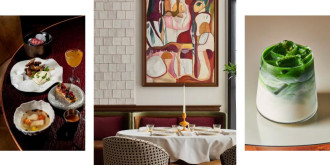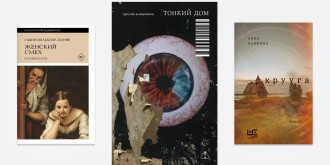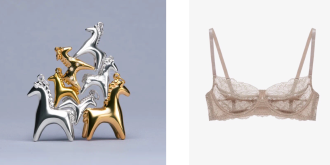Светлана Миронюк: «Через что мы чувствуем чужую боль? Через свою»

Об особенностях сферы филантропии, буме социально ориентированных бизнесов и о том, как влияет на эти изменения смена поколений, Светлана Миронюк — близкий друг многих фондов, член правления фонда «Друзья», медиаменеджер и маркетолог с весомым профессиональным опытом — рассуждает охотно и с увлеченностью, анализируя и слабые, и сильные стороны индустрии благотворительности.
— В следующем году фонду «Друзья» исполнится 5 лет. Мы, конечно, забегаем слегка вперед, но для красоты цифры спрошу, как изменилась сфера благотворительности в России как раз за это время.
— За последние 5 лет сфера благотворительности сильно изменилась. Конечно, неправильно было бы считать, что это результат деятельности лишь одного нашего фонда. Одна из бед российского третьего сектора (Третий сектор — сфера НКО. Первый сектор — государственный. Второй — бизнес. — «РБК Стиль») в том, что он сильно разобщен. Исследование фонда «Друзья» и центра «Соль» в прошлом году показало, что эта сфера пока не стала полноценным сообществом, не провязана системой отношений. Результат действия групп, которые работают сообща, очевидно более сильный. Есть такое понятие — сетевой эффект: он пропорционален квадрату количества участников сети — чем больше участников сети связаны общими связями и взаимодействуют, тем сильнее результат и устойчивее сеть. На этом принципе построены все системы и платформы. Этого сетевого эффекта пока в филантропии в России нет или он очень слаб. Поэтому изменения, которые сегодня происходят в индустрии благотворительности, — результат многочисленных необъединенных действий разных людей и групп.
Одна из активных групп — это как раз фонд «Друзья». Чем мне нравятся «Друзья» — неформализованностью ролей. Здесь почти нет обязанностей в их привычном смысле. Сейчас нужно это — ты идешь и делаешь. Потом нужно что-то, в чем силен другой, — тогда на первый план выступает уже он. В этой неформальности есть очень драйвовая история, которая лично меня мотивирует.
— Приходят ли в благотворительность новые люди?
— В российской благотворительности точно стало больше игроков. В фонды пришли молодые люди, 25–30-летние, так что самый большой сдвиг — поколенческий. Раньше все-таки благотворительность была сферой взрослых состоявшихся людей с внутренней моральной струной, ценностями, состраданием, жертвенностью, желанием приносить пользу. Это желание быть полезным — важная часть ценностных ориентиров и нового поколения, которое сейчас доминирует, и это здорово: значит, увеличение третьего сектора будет происходить само по себе, потому что молодые люди хотят осознанно действовать и видеть смыслы в том, что делают. Благотворительность, экология, другие социально ориентированные сферы сейчас становятся в положительном смысле мейнстримом. Мы стоим на пороге бума социально ориентированных инициатив, бизнесов, проектов, стартапов с социальной миссией.
Я заметила один общественный тренд, в котором вижу и негативную, и позитивную стороны. Негативная состоит в том, что люди сейчас говорят «я не верю большим фондам, я лучше буду помогать конкретному ребенку». Фонды возражают: «мы будем делать это профессионально; каждый рубль, потраченный с помощью профессионалов, даст больше результата, чем если вы это сделаете напрямую». Мне очень нравится пост журналиста Кати Гордеевой об этом: «Деньги не лечат, не решают проблемы, лечат люди». Соберешь ты много миллионов на конкретного ребенка, но этим его не вылечишь. А сможешь помочь, если найдешь правильный доказательный сценарий лечения и нужных врачей, — во всем этом разбираются профессионалы в фондах.
Есть много молодых предпринимателей, которые говорят, что хотят делать что-то сами, готовы организовать свои фонды. Если посмотреть на это явление с позиции отрасли, наверное, такое распыление ресурсов — это не очень хорошо. С другой стороны, когда сотни людей хотят что-то делать сами и учреждают свои фонды... Да, они набьют шишек, что-то сделают неэффективно, но ведь это говорит о том, что интерес к благотворительности становится массовым. Это большой позитивный прорыв. Благотворительность перестает быть жертвенной функцией, а необходимость приносить пользу становится частью жизненного сценария. Люди хотят сами открывать благотворительные фонды, потому что им важно видеть результат здесь и сейчас.

— Мы можем говорить о том, что эти перемены связаны в том числе с ценностями нового поколения, которое пришло в благотворительность?
— Определенно. Но это не только миллениалы, о которых я упоминала, но и следующее поколение. Вот личный пример. Моему среднему сыну 19 лет, он учится в Голландии, недавно позвонил и говорит: «Есть новый поисковик, который четверть своих денег отдает на социальные цели, так что я теперь буду пользоваться только им». Я отвечаю: «Саша, это маркетинговый ход». «Нет, мама, я хочу каждым своим поиском приносить пользу». Так меняются предпочтения. Как маркетолог могу вам сказать, что сейчас примерно 2/3 покупателей возраста 25–35 лет не поленятся проверить социальную миссию компании, в которую они устраиваются или у которой собираются что-то крупное покупать.
— А как вы относитесь к тому, что за социальной миссией в некоторых случаях действительно скрывается желание получить, в первую очередь, репутационную выгоду?
— По мне, в этом нет ничего очень плохого. В конце концов, необязательно светлые дела делаются исключительно со светлыми чувствами. Если за этим и стоит какая-то маркетинговая уловка, как в истории про поисковик, важен результат. Я тогда сказала сыну: «Они так привлекают аудиторию, чтобы раскрутиться». А он ответил: «Какая разница? Я буду знать, что каждый мой поиск приносит 25 центов на важные социальные решения». Другими словами, даже если компании исходят из прагматических соображений — привлечь новых клиентов или улучшить свою репутацию, — это лучше, чем когда таких инициатив нет вовсе. А вообще, филантропия и работа в этой области перешли из установки «я должен» в установку «я хочу», потому что пришли люди с сильным ощущением «я хочу менять мир вокруг себя и буду так делать». Не «я должен быть хорошим» — одним из внутренних посылов благотворительности считается наше желание соответствовать детским представлениям о том, как правильно, — а вот это проактивное «я хочу». В филантропию пришло много зрелых людей со своими бизнесами, потому что им хочется, чтобы их бизнес приносил не только деньги, но и смысл. И это снова приводит нас к разговору о поколениях. В моем более старшем поколении запрос на смыслы возник скорее после 40. А вот у вас осознанность в отношении себя и своих действий гораздо более ранняя, она не связана с возрастом и является базовой ценностью, вы лучше нас.
— Если возвращаться к теме доверия. Насколько фондам сегодня помогают медийные имена? Это концепция, которая в благотворительности играла роль всегда. Сегодня она продолжает оставаться актуальной?
— Это, конечно, по-прежнему важно. Наличие узнаваемого человека во главе или в команде фонда создает большее доверие. Я могу не доверять неизвестной мне организации, но я точно доверяю, например, Ингеборге Дапкунайте. Это кредит доверия публичному человеку. Но что важно и интересно в нашем новом времени: сегодня стать человеком с собственной аудиторией, с этим самым кредитом доверия может любой. Ты можешь, работая в своем бизнесе, допустим, в пекарне на районе, рассказывать не только о том, как замешиваешь хлеб, но и о том, что угощаешь, кормишь им бесплатно стариков, и тебя будут читать, сложится своя аудитория. Так возникает доверие. Это не про пиар и не про нарциссизм, а про доверие. Да, медийность все так же важна, но сегодня строить ее можно по-другому. Поэтому мы знаем примеры фондов, в которых нет медийных персон, но при этом узнаваемость и доверие к ним есть.

— Фонд «Друзья» можно сравнить с кризисным менеджером, который смотрит на ситуацию и помогает проанализировать проблемы, наладить процессы. Эти проблемы, которые есть у других фондов, со временем меняются? Я имею в виду, что сфера развивается, выходят интервью основных «игроков», переводятся книги и исследования. Появляется ли у фондов больше понимания, как нужно работать, как быть эффективнее?
— Пока мы все еще делаем точечную работу. Проблем океан, а мы в нем расчистили лишь маленький островок. Будем просто двигаться вперед. Привлекательность третьего сектора в том, что здесь всегда будет чем заняться, не появится ощущения «здесь мы уже все сделали». Фонд «Друзья» ведь в некотором смысле как доктор. Мы видим проблему, вникаем в ситуацию, понимаем, как ее можно исправить, но при этом не можем и не должны задевать профессиональное самолюбие сотрудников НКО. И в этом вопросе ас мой друг и коллега Гор Нахапетян — он просто удивительный коммуникатор. Умеет увидеть проблему и так ее обрисовать, рассказать про нее представителям фондов, чтобы это вдохновляло на изменения, а не подавляло. Важно, чтобы таких активистов, как Гор, Оксана, Ян, Дима, Иван (Гор Нахапетян, Ян Яновский, Дмитрий Ямпольский — основатели фонда «Друзья», Оксана Разумова — председатель правления, Иван Ургант — председатель попечительского совета. — «РБК Стиль») становилось больше. Много новых людей втягиваются в орбиту фонда: кто в попечительский совет, кто в правление, кто в волонтеры. Это здорово, что такая полезная «движуха» затягивает.
— Мы часто говорим о том, что благотворительность — такая же сфера, как другие, что в ней должны действовать законы бизнеса. Но все-таки это работа с людьми, с их историями, иногда очень трагичными. Как найти эту грань: с одной стороны, оставаться с холодной головой, потому что нужно решать конкретные проблемы, а с другой — помнить о людях?
— Здесь нет дилеммы. Когда мы ведем речь о профессионализации этой сферы, мы говорим об инструментах. Современные инструменты лучше и эффективнее работают. Научить с ними работать, дать в руки «удочку» — это одна из наших задач, что не отменяет запрос на эмпатию и человеческие качества тех, кто работает в фондах. Многие истощаются, внутренне выгорают. У сотрудников нет карьеры в привычном понимании этого понятия. Они не ставят себе задачу — через 5 лет я буду руководить направлением, через 10 защищу диссертацию. Такого нет, не до этого. У людей, работающих в филантропии, нет ощущения планового и продуманного собственного профессионального будущего — ты маленькую лужицу в этом океане разгреб, а волна опять накрыла.
Построить HR-треки для сотрудников фондов — важная задача. Это управление человеческими ресурсами: карьерный сценарий, новые компетенции, дополнительное образование. Вчера ты был волонтером, сегодня — сотрудник фонда, завтра лидер направления. Или учредил свой фонд. С появлением нашей Школы профессиональной филантропии мы начали об этом говорить серьезно, начали этому учить. Мы берем базовые знания для бизнеса, свой практический опыт и опыт лидеров индустрии благотворительности, перерабатываем его, закладываем в обучающие модели. В структуре обучающих модулей Школы примерно 30% — это hardskills, от финансовых до маркетинговых, 30% — softskills, лидерство, эмпатия, коммуникации. Умение коммуницировать сегодня — крайне важная компетенция, без нее какая-нибудь производственная компания, может, и выживет, но будет страдать, а фонд может развалиться. Значимость человеческого фактора в фондах важнее, чем в бизнесе. А 25% в нашей программе — практический опыт: приходят лидеры и рассказывают о своих успехах или проблемах из первых уст.
В филантропию пришло много зрелых людей со своими бизнесами, потому что им хочется, чтобы их бизнес приносил не только деньги, но и смысл.
— Получается, что Московская школа профессиональной филантропии в данном случае — эксперт, к которому можно прийти и спросить, что делать?
— Не только. Я начала с того, что игроки третьего сектора мало взаимодействуют друг с другом. Так вот, наша Школа эту ситуацию меняет. Первые студенты выпустились, они из разных городов и работают в разных благотворительных (и не только) организациях, но эти 26 человек продолжают общаться, придумывают новые проекты, двое из них учредили антираковую ассоциацию, потому что их проекты были в этой области, и они увидели нишу и возможность объединить усилия. Я год назад училась в Университете сингулярности, и у меня в телефоне до сих пор живет чат из 80 однокурсников со всего мира, которые обсуждают самые разные технологические, социальные и научные проблемы. Я, может, не самый активный его участник, но ощущение причастности у меня есть, и если мне понадобится экспертиза, вот она, в чате, прямо под рукой. Чтобы ее получить, мне уже не нужно обращаться в университет. Само сообщество становится носителем дополнительной экспертизы, продуцирует новые знания, контент. Когда мы придумывали МШПФ, то не предполагали, что сетевой эффект объединения людей со схожими ценностями сработает так стремительно и позитивно. Это не было целью. Целью было отработать обучающие модули, построить всю систему. А потом мы вдруг увидели, что механизм начал работать сам.
— Согласны ли вы с формулировкой, которая стала появляться в медиа, что основанная фондом Школа филантропии — это MBA в сфере благотворительности?
— Не совсем. Пока мы мини-МВА. Чтобы стать главным MBA для НКО, нужно быть серьезнее, глубже, масштабнее. Мы к этому придем, обсуждаем в фонде, что нам нужно делать магистерскую программу, попадать в официальную образовательную линию. Потому что пока МШПФ — это дополнительное образование, хотя и с дипломом ВШЭ. Мы вообще мечтаем масштабно и хотим замахнуться на факультет филантропии и благотворительности. Нас удивил спрос на обучение филантропии, мы ожидали, что он будет большим, но 5–6 человек на место, как было в прошлом году, — такого мы не прогнозировали. Желание людей прийти в некоммерческий сектор и быть в нем успешными больше, чем мы могли предположить.
— Давайте вернемся к разговору о филантропии и ее будущем. Сейчас фонды все чаще рассказывают своей аудитории о том, что системная поддержка гораздо важнее несистемной. Условно, что ежемесячные 50 руб. важнее 5 млн, которые вы пожертвовали один раз.
— Да, это так. И это глобальный тренд. В Америке фандрайзинг приносит более $400 млрд в год. Из чего складывается эта сумма? На 2/3 — из частных пожертвований. Из них где-то 2% дают миллиардеры. Остальные миллиарды благотворительных денег собирают те, кто просто регулярно жертвует по $10–50. У нас, по данным исследования «Российский филантроп», половина доноров — частные лица, из этого 30% — пожертвования состоятельных людей. Вес богатых и сверхбогатых людей и у них, и у нас в структуре фандрайзинга не доминирует, как нам может казаться, и не так важен для устойчивости индустрии, как «капельная» благотворительность. Ты не замечаешь, что дал 50 руб., но в масштабах большой страны это работает как очень устойчивый поток помощи. Его надо развивать.

— Что нужно предпринимать фондам, чтобы фандрайзинг был системным?
— Изучать новые инструменты и свою целевую аудиторию. У нас есть мифологизированное, искривленное представление, что надо найти богатого дядю, убедить его помогать и тогда проблема устойчивости фонда или благотворительного проекта будет решена. Таких «дядь» становится все меньше. И те, что есть в наличии, уже помогают. На самом деле, фонд «Друзья» и то, как он фандрайзит, — хороший пример диверсификации подходов. «Друзья» не рассчитывает только на крупную частную финансовую помощь, а идет и зарабатывает сам. На акциях вроде кулинарных или музыкальных баттлов. Мы себе сказали, что не пойдем в тот сегмент, где фандрайзят фонды, помогающие конкретным людям, нашли для себя другой способ. Как и в маркетинге, фандрайзинговые инструменты очень быстро перестают работать. Аукционы, например. Шляпка Моники Беллуччи, очки Квентина Тарантино раньше собирали огромные деньги, а сейчас почти перестали. Возможно, произошло насыщение, это больше не удивляет. Значит, нужно придумывать другие подходы, внимательно изучать тренды. Сегодня люди хотят чувствовать свой вклад в конкретные истории тех, кто нуждается в помощи. Чтобы не просто раз в год прислали письмо: «Спасибо за три раза по 50 руб., ваши деньги сделали то-то». Есть запрос на соучастие здесь и сейчас, надо придумывать новые механизмы виртуального участия и вовлеченности человека в то, на что конкретно идут его деньги.
— Эта эмоциональная вовлеченность помогает развиваться всей сфере? Например, сейчас люди часто празднуют дни рождения или свадьбы, вместо подарков предлагая гостям помочь выбранному виновниками торжества фонду.
— Вы говорите об эмоциональной зрелости людей, готовности быть сопричастными. То, что мы с вами наблюдаем у нас в стране последние лет 10 в случае каких-то катастроф, природных катаклизмов, — появляется огромное количество неорганизованных волонтеров, которые собирают вещи, деньги, едут помогать. Мне кажется, эта внутренняя готовность помогать, сопереживать и соучаствовать сегодня в людях очень высока. И чем больше мы будем об этом говорить, тем больше люди будут открываться этому. Внутренняя готовность сострадать деятельно у нас заложена в ДНК.
— Этот вопрос в разговоре о филантропии, как правило, первый, но мы пришли к нему в конце. С чего начиналась ваша собственная история в благотворительности?
— У меня был такой же волшебный пинок, как у многих других. Через что мы чувствуем чужую боль? Через свою. Когда я была руководителем «РИА Новостей», помогала многим фондам, тогда познакомилась и с Чулпан Хаматовой, и с Дуней Смирновой, и со многими другими лидерами благотворительной индустрии. Но это не было частью осознанной и ценной для меня деятельности. Меня просили — я помогала, это было пассивное участие. Когда я оказалась без работы, начался кризис профессиональной востребованности. Мне позвонила сначала Дуня, а потом Чулпан, обе сказали: «Ты нам нужна». Я удивилась, чем я могу им сейчас быть полезной, потому что когда была начальником, могла принести пользу, а сейчас-то от меня пользы ноль. И вот они мне и объяснили, что польза не в том, что я могу кому-то дать указания что-то сделать, а польза в моем опыте, знаниях, контактах и личной вовлеченности. Это им нужно здесь и сейчас. Они мне вернули ощущение востребованности, открыли для меня целый другой мир. А после первых шагов я начала получать от этой осознанной деятельности еще и удовольствие. Добавился еще и кайф от того, что... Не знаю, нам нужен чиновник Х или руководитель компании Y, никто с ним не знаком, но мы через три рукопожатия дойдем до него, нас четыре раза пошлют, а на пятый раз мы все равно пробьемся и сможем зажечь, достучаться, убедить помогать и деятельно соучаствовать. Это «I did it», драйв от совместного решения нетиповых, нетривиальных задач. Это большое удовольствие — моя личная история.