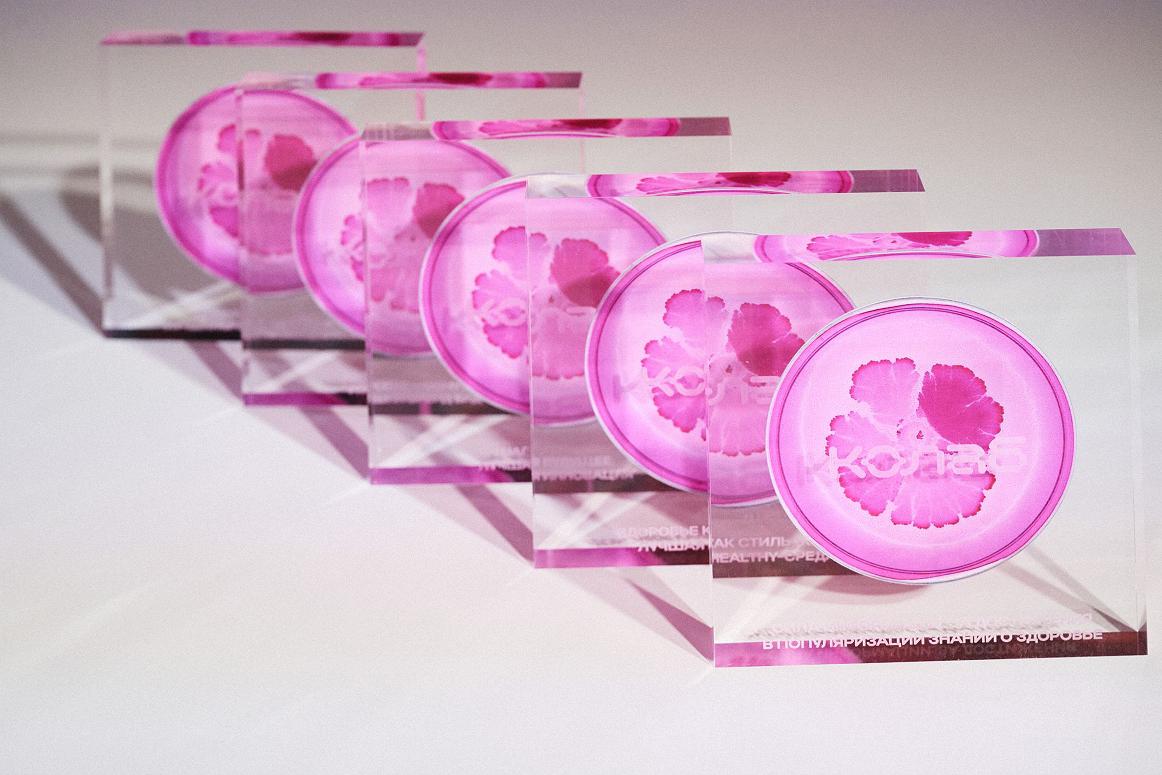Почему герои русской литературы — это антипример концепции wellbeing

Кадр из фильма «Анна Каренина»
Чтобы понять, насколько русскому человеку близка концепция wellbeing, можно посмотреть, близко ли это понятие, выраженное труднопереводимым англицизмом, российской культуре. Литературный критик, филолог и писательница Мария Лебедева («Там темно») проанализировала несколько текстов школьной программы с точки зрения того, как хрестоматийные персонажи заботятся (и заботятся ли вообще) о своем благополучии. И пришла к выводу, что далеко не у всех это получается хорошо.
«Обломов» и физическое благополучие
Со школьных уроков литературы осталось в памяти слово «обломовщина» — непременно с негативным оттенком, такой синоним апатии и лени. Разумеется, с подачи Добролюбова, который в статье «Что такое обломовщина?» вывел героя как иллюстрацию большой общественной проблемы — несостоятельности крепостничества.
Сейчас мы знаем, что рабство недопустимо во всех его формах. И можем посмотреть на героя иначе. Считать Обломова однозначно классным парнем мы вряд ли начнем: все же культурный контекст в этом плане не настолько изменился. Но как герой он явно куда больше, чем иллюстрация авторских взглядов. Например, можно сходу заметить, что 32-летний Илья Обломов открыл для себя то же, что и многие фрилансеры во время пандемии: одежда способна сильно влиять на настроение, самоощущение и возможность работать.
Да, речь о знаменитом халате:
Халат имел в глазах Обломова тьму неоцененных достоинств: он мягок, гибок; тело не чувствует его на себе; он, как послушный раб, покоряется самомалейшему движению тела.
Обломов всегда ходил дома без галстука и без жилета, потому что любил простор и приволье. Туфли на нем были длинные, мягкие и широкие: когда он не глядя опускал ноги с постели на пол, то непременно попадал в них сразу.
При всех своих очевидных и неоспоримых недостатках Обломов — едва ли не идеал современной поп-психологии, призывавшей заботиться о своем комфорте, невзирая на остальных. Обломов не очень интересуется чувствами других и вообще может быть не слишком приятен, но, что касается умения слышать себя и ощущать собственные границы, у него все отлично. Он не обращает внимания на то, что его пытается пристыдить за любимый немодный халат первый утренний визитер Волков. Отказывается читать остросоциальную поэму «Любовь взяточника к падшей женщине», которую навязывает литератор Пенкин. Обломов прямо высказывает непопулярное мнение, подчеркнув, что автор этой поэмы лишь паразитирует на сложной теме, забыв об эмпатии: «Где же человечность-то? Вы одной головой хотите писать!» Настоящий сигма-бой русской классики.
Обломов открыл для себя то же, что и многие фрилансеры во время пандемии: одежда способна сильно влиять на настроение, самоощущение и возможность работать.
Правда, в другие моменты заметно, что источник этой мнимой самоуверенности — огромное нежелание меняться, а вовсе не целостность. Например, когда герой начинает тосковать по нереализованным возможностям без единой попытки что-либо исправить. По сути поведение Обломова — это пример, к чему может привести идея радикальной заботы о себе в сочетании с инфантильностью и отсутствием критического мышления. Так мог бы вести себя маленький ребенок, начитавшийся Михаила Лабковского.
То, что Илья Обломов считает лучшим для себя, ни к какому реальному физическому благополучию не ведет. Он мало двигается, не соблюдает режим дня и в целом даже физически постоянно ощущает себя вялым и лишенным сил. Да и «как-то обрюзг не по летам: от недостатка ли движения или воздуха, а может быть, того и другого».
Так что с точки зрения wellbeing «Обломов» (1859) — пример, как отсутствие заботы о физическом благополучии переходит на все сферы жизни. Тело — это важно, будь оно наряжено в халат или в спортивный костюм.
«Анна Каренина» и социальное благополучие
Заученная многими наизусть первая фраза «все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему» открывает роман, начинающийся с измены. Долли Облонская узнает о неверности мужа Стивы, а прислуга рьяно этому Стиве сочувствует. Также в книге есть пара Левиных, которую принято рассматривать как идеальную, во многом потому что Толстой вдохновлялся собственной историей брака или, вернее, тем, какой она ему виделась. И, конечно, семья Карениных, где Анна просто не может развестись, потому что бракоразводный процесс того времени выглядит как иллюзия выбора. То есть формально разводы никто не запрещает, но причин для расторжения брака может быть только три. Это длительное отсутствие одного из супругов, мешающие деторождению физические особенности, документально зафиксированная измена. Документально — то есть при свидетелях, готовых это подтвердить.
Объединяет эти семьи то, что за фасадом внешнего благополучия (или попыткой его построить) скрывается целая бездна сложностей. Какие-то связаны с особенностями характера, какие-то — с социальными нормами того времени, зачастую безжалостными. Неважно, счастлив ты или нет, любишь ли ты своего партнера, — главное, выгляди хорошо в глазах общества.
Сейчас социальные нормы более гибкие. А в случае трудностей люди зачастую готовы работать над своим поведением и налаживать диалог или же найти силы закончить отношения, которые не устраивают. Парная или индивидуальная терапия у психолога далеко не панацея. Но ее доступность учит главному: важно честно признать проблемы, а не стараться выглядеть нормальным, когда рушится буквально все.
Ошибаться не стыдно. А вот осознанно делать больно жене, рассчитывая на то, что дела наладятся сами собой, как это делает изменник Стива, или продавливать решение очень юной девушки выйти за тебя замуж, ведь ты такой хороший человек, а потом удивляться ее только формирующемуся характеру, как это делает Левин, — не самые здоровые поступки. И да, все счастливые семьи не похожи друг на друга: счастье тоже у каждого разное.
«Анна Каренина» показывает, что достаточно просто достичь видимости социального благополучия. Только это будет совершенно не о том, чтобы чувствовать себя безопасно и уверенно. Герои богаты и статусны, но совершенно несвободны в реализации жизненных планов. А если вспомнить, что социальное благополучие — это не только общественные связи, но и отношения с людьми, то здесь у героев романа все не слишком хорошо.
«Мертвые души» и финансовое благополучие
Аферист Павел Чичиков разъезжает по домам помещиков. Благодаря этим визитам мы можем узнать, как именно выглядел быт каждого — от интерьеров до манеры ведения хозяйства. И «Мертвые души» с этой точки зрения, опять же, настоящее пособие, как делать не надо. Чуть ли не все герои, к которым заезжает аферист, могли бы быть финансово благополучными, но не стали. По очень разным причинам.
Патологически жадный Плюшкин воображает себя экономным. На деле все его не используемое по назначению богатство давно пришло в упадок. Сам помещик, отказывая себе даже в необходимом, живет ровно так же не по средствам, как и те, кто тратит все до копейки. Дом Плюшкина похож на жилище человека с синдромом Диогена: скопление грязных ненужных вещей. Супругов Маниловых, очаровательных родителей малышей Фемистоклюса и Алкида (мода на оригинальные имена высмеивалась не только в 20-е годы XXI века), «низменный» быт не интересует вовсе. Их слуги в основном заняты распитием алкоголя, что негативно сказывается на делах поместья. Соло-отец Ноздрев увлечен разведением собак, азартными играми и кутежом — вся его жизнь нестабильна, не то что финансы. Да и сам Чичиков слишком зациклен на деньгах. Речь не только о его мошеннической схеме с мертвыми душами. Даже увидев привлекательную девушку, он думает следующее:
А любопытно бы знать, чьих она? что, как ее отец? богатый ли помещик почтенного нрава или просто благомыслящий человек с капиталом, приобретенным на службе? Ведь если, положим, этой девушке да придать тысячонок двести приданого, из нее бы мог выйти очень, очень лакомый кусочек. Это бы могло составить, так сказать, счастье порядочного человека.
Героям недостает ни адекватного контроля над финансами, ни четкого понимания своих возможностей, ни планирования. И вся их несостоятельность в финансовом плане показана вполне однозначно. Очередной антипример концепции wellbeing.
«Записки юного врача» и профессиональное благополучие
Если бы Булгаков писал «Записки юного врача» в 2025 году, а не сто лет назад, их бы назвали автофикшеном — жанром, в котором тесно сплетаются вымысел и реальная автобиография. А на презентациях писателя спрашивали бы, что именно он в своих рассказах выдумал, а что же действительно случилось с ним во время работы врачом в Никольском. Условия там, с одной стороны, не самые плохие. Стараниями предыдущего, более опытного коллеги больница оказывается обеспеченной лекарствами и полезными медицинскими справочниками. Поначалу отсутствие опыта причиняет молодому доктору настоящие страдания. Он боится всего, что сопряжено с риском для пациента: делать срочную ампутацию ноги, принимать сложные роды.
Здесь же я — один-одинешенек, под руками у меня мучающаяся женщина; за нее я отвечаю. Но как ей нужно помогать, я не знаю, потому что вблизи роды видел только два раза в своей жизни в клинике, и те были совершенно нормальны. Сейчас я делаю исследование, но от этого не легче ни мне, ни роженице; я ровно ничего не понимаю и не могу прощупать там у нее внутри.
А пора уже на что-нибудь решиться.
С другой стороны, техническое оснащение больницы не единственное, что может влиять на желание героя работать и развиваться. Кроме непосредственно болезней молодой врач работает и с отсутствием просвещения. Малограмотные, суеверные крестьяне больше доверяют знахарям, чем медицине. И к огромной профессиональной нагрузке прилагается еще и нагрузка эмоциональная. Пациенты далеко не всегда благодарны, не всегда следуют советам, халатно относятся к своему здоровью. Один принимает все назначенные лекарства разом, чтобы поскорее выздороветь. Другая ставит под угрозу жизнь маленького сына, отказываясь от лечения. Когда у третьей начинаются роды, свекор заставляет ее идти пешком пять верст (5,3 км) в больницу — не гонять же из-за такого пустяка лошадь — и она начинает рожать прямо на мосту.
«Записки юного врача» (1925–1926) — о той реализации в профессии, какую нельзя измерить деньгами. И с этой точки зрения работа медика, конечно, абсолютно подходит принципам профессионального благополучия. Но в остальном — нет. Она изматывает и не оставляет ни минуты на отдых: долго продержаться в таком режиме не мог бы никто. Глядя в зеркало год спустя после начала практики, герой ужасается, как изменилась его внешность. Ему бы остаться в разуме и живым, какой уж тут wellbeing.
«Мы» и эмоциональное благополучие
Классическая антиутопия с таким же классическим пониманием эмоций как чего-то запретного. Мир будущего мы видим глазами гениального математика Д-503 вместе с другими работающими во благо государства. За Зеленой Стеной, как водится, существует совершенно иной, дикий мир. Сегодня эта антиутопия может показаться предсказуемой. Все потому, что многие сюжетные ходы, которые задал Замятин, современным читателям известны из других антиутопий — от «1984» Оруэлла до «Голодных игр» Коллинз.
Я лично не вижу в цветах ничего красивого — как и во всем, что принадлежит к дикому миру, давно изгнанному за Зеленую Стену. Красиво только разумное и полезное: машины, сапоги, формулы, пища и пр.
Нет эмоций — нет эмоционального неблагополучия. Государство обеспечивает секс по билетикам, закон задает отсутствие привязанностей (которое, конечно, на самом деле нарушено — очевидно, что герой предпочитает общаться со своим другом и своей сексуальной партнершей и к обоим достаточно привязан). По ходу романа Д-503 открывает в себе эмоции, в том числе достаточно деструктивные. Например, разрушительную зависимость он по эмоциональной неопытности принимает за любовь «в древнем понимании слова». А любовный треугольник в какой-то момент превращается в многоугольник: герой симпатизирует одной, страстно желает другую, а в него влюблена третья. Замятин помещает математика с «лохматыми руками» в подобие гаремного аниме не случайно: в мире, где чувства под государственным контролем, его природная сексуальность — своеобразный протест.
Только вот все попытки принять себя закончатся, так и не начавшись.
«Мы» (1920) — история о пути становления эмоционального благополучия, которое резко и болезненно прервалось, пути ошибок и роста, который не случился. И очередное напоминание о том, что бояться эмоций — затея бессмысленная. Их надо уметь проживать, разрешать, впускать в себя (в том числе и боль), а не прятать и подавлять.
Принципы wellbeing в русскоязычной прозе XXI века
Со временем менялись представления о физически полезных занятиях, о семье, о допустимых эмоциях. В культуре последних лет заметна постепенная смена вектора с достигаторства и лозунгов «Быстрее, выше, сильнее!», заставляющих заработать свой первый миллион до окончания школы, к пониманию своих потребностей и поиску личных смыслов. Опять же, благодаря популяризации психологии. Все это было недоступно героям российской классики, живущим в совершенно иной реальности, где было проще ограничить доступ к информации хотя бы потому, что не все были грамотны, далеко не всем были открыты путешествия или любые другие способы увидеть мир.
В современной российской литературе значительно больше книг о социальном, физическом и эмоциональном благополучии (а вот о финансовом, к сожалению, прозы явно недостает). Даже сам жанр автофикшена, без которого проза сейчас немыслима, подразумевает обращение внутрь себя, анализ собственных переживаний и влияния окружения. Как, например, уже современная классика 20-летней давности, «Белое на черном» Рубена Давида Гонсалеса Гальего — автобиографический роман о жизни мальчика с ДЦП в приюте. Или «Посмотри на него» Анны Старобинец, история о перинатальной утрате, аборте по медицинском показаниям, — это разом исследование и социальное, и эмоциональное, и физическое. Вышедшую в 2017 году книгу восприняли неоднозначно: не было традиции говорить о таком горе (да и о трагедиях вообще: зачастую публичное горевание приравнивается к нытью и человек не может даже оплакать свою потерю).
Сейчас, в 2025 году, литература на русском языке гораздо свободнее говорит о темах, связанных с физическим благополучием, будь то генетическая наследственность («Хорея» Марины Кочан), сложная беременность и роды («Отслойка» Алтынай Султан). То же касается и производственного автофикшена, раскрывающего сложности профессиональной реализации и планирования финансов. Например, Маша Гаврилова в «Я обязательно уволюсь» говорит именно об этом: юная героиня не хочет принимать как должное сложившуюся эксплуатацию в офисной системе.
А книги о том, как кто-то хорошо питается, много спит, гуляет на свежем воздухе и с удовольствием работает в маленьком книжном магазинчике, стоит все же искать в сегменте так называемой feel-good-литературы, основная задача которой как раз и дарить ощущение счастья и благополучия. Вот это поистине литература wellbeing.
Читайте все материалы проекта РБК Wellbeing здесь.