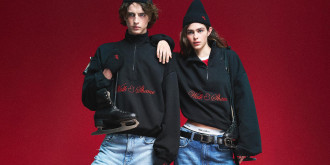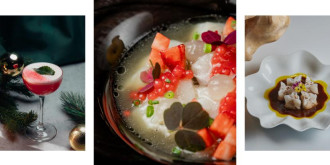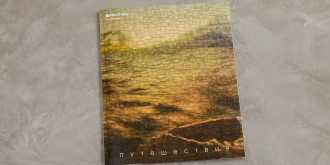Теодор Курентзис и musicAeterna

Греческий дирижер, учившийся в Петербурге, Теодор Курентзис основал свой ансамбль в 2005 году на базе Новосибирского театра оперы и балета. За два десятка лет он и его музыканты нашли сначала свои особые принципы аутентичного исполнения старинной музыки, затем новые способы интерпретации масштабных симфонических и оперных партитур, потом облик, задачи и возможности такого явления, как музыкальный фестиваль, который охватывает сразу много видов сценического искусства, площадок и типов зрительского опыта. Наконец, во многом повлияли на то, как вообще смотрит на музыку современный российский слушатель. Сегодня musicAeterna — не только оркестр и хор, но и грандиозный организм: система проектов, базирующихся в петербургском Доме радио и объединенных восприятием искусства как формы существования.
- Теодор Курентзис родился в Афинах, а определяющим для него пространством стала Россия, куда он приехал в 1990-х.
- Учился в Петербургской консерватории, прошел школу Ильи Мусина — фигуры мифологической для отечественного дирижерского искусства, воспитателя десятков советских и мировых звезд.
- Долго (во многом целенаправленно) развивал свои коллективы на периферии привычной культурной карты: в Новосибирске, а с 2011 года — в Перми. Существенно изменил музыкальный климат обоих городов и сделал их местом культурного паломничества.
- Постоянный участник самых значимых музыкальных фестивалей мира — в первую очередь Зальцбургского. Артисты musicAeterna стали первым российским коллективом, открывавшим там оперную программу.
- С 2019 года возглавляет musicAeterna как независимую систему музыкальных коллективов и просветительских программ.
Назад, в будущее
Оркестр и хор musicAeterna возникли как ансамбли, тесно связанные с принципами исторически информированного исполнительства. Так называется течение в интерпретации старинной музыки, ставящее целью возврат к аутентичному звучанию: исполнительским практикам эпохи, которая дала этой музыке жизнь. В середине 2000-х, когда музыканты и певцы под началом Курентзиса начали исполнять старинную музыку малым составом, в необычных поляризованных темпах (очень медленных и очень подвижных), с фирменной кристальной артикуляцией, традиция аутентичного исполнительства в России была не слишком распространена. Заново, как старая живопись, освобожденная из-под копоти и пожелтевшего лака, прорисовывалась перед слушателем музыка Моцарта, Пёрселла или Рамо.

Почти сразу репертуар musicAeterna перестал, впрочем, ограничиваться лишь музыкой XVII—XVIII веков. Однако старое и новое в исполнительской манере Курентзиса постоянно и парадоксально переплеталось, всякий раз прокладывая для слушателей новые траектории восприятия. Трактовкам старинной музыки сообщались такие ясность, драматическая бескомпромиссность и эмоциональная температура, что они воспринимались как радикальные, почти авангардные по духу. Малоизвестные или новейшие партитуры звучали с убежденностью и апломбом, словно хрестоматийные шедевры. Произведения «золотого репертуара» трактовались так, будто исполнительской традиции этой музыки вообще не существовало.
«Оркестр дирижера»
За 20 лет для musicAeterna менялась география расположения, институциональная прописка, росли размеры ансамблей и масштаб их деятельности, но одними и теми же оставались эстетические принципы. Огромное значение имеет здесь фигура самого Теодора Курентзиса: с самого начала musicAeterna был «оркестром дирижера», хоть и воспринимался как союз равных, связанных не субординацией, а одержимостью общим делом. Особая артистическая философия, взаимодействие с музыкой как форма духовной концентрации, нетерпимость к рутине — все это исходило именно от главного дирижера. Перечисленное повлияло и на внешние проявления исполнительского стиля musicAeterna: например, массивные продолжительные партитуры вроде симфоний Малера играются оркестром стоя, как сольная музыка.
На протяжении долгих лет Курентзис подчеркнуто стремился оставаться фигурой независимой, антисистемной — настолько, насколько это вообще возможно для руководителя коллектива такого масштаба. Все, от музыкантского мышления до сценического облика дирижера и содержания его интервью, отличалось в нем от усредненного представления публики о «классическом музыканте». Личный магнетизм и абсолютная инаковость Курентзиса привели в концертный зал (и вообще в область «серьезной» музыки) множество новых слушателей. Вместе с тем сложно назвать артиста, который меньше соответствовал бы стереотипу о «демократизации» искусства. Наоборот, его работа парадоксальным образом ведет к «аристократизации» значительной части публики, вовлекающейся в сложные формы восприятия и соучастия.

Соучастие, а не потребление
Именно поэтому в последние годы вокруг musicAeterna растет устойчивое сообщество, где слушатель существует не как потребитель музыки, а как участник никогда не заканчивающегося художественного процесса, разделяющий определенный способ мышления. На выступления оркестра и хора бывает непросто попасть (впрочем, это не останавливает публику, раз за разом обрушивающую электронные билетные кассы в течение минут и часов после открытия продаж), но musicAeterna — это не только крупные концертные события и ежегодный Дягилевский фестиваль в Перми. Это и камерные вечера, экспериментальные мероприятия, лекции, кинопоказы, обсуждения, открытые хоровые занятия для всех желающих. Такая модель взаимодействия с аудиторией — не сводящаяся к массивным «парадным» событиям, а основанная на взаимодействии и росте — по-прежнему уникальна для российской сцены, ведь она не только интеллектуально развлекает и эмоционально напитывает, но в прямом смысле формирует публику.