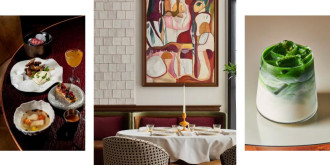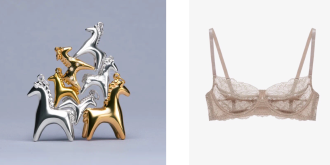Илья Хржановский — о «Дау», интимности и этике

Илья Хржановский не давал интервью прессе последние 10 лет, но вдруг решил прервать молчание. По его собственным словам, причиной стали фестивальные правила: сказано ходить на пресс-конференции и общаться с журналистами и критиками — сделано. Максим Заговора одним из первых встретился с режиссером для большого разговора о кино, этике, а также, разумеется, о самом проекте «Дау».
— Илья Андреевич, вы десять лет практически не давали интервью, особенно российской прессе.
— Нет, я вообще их не давал.
— И подавно телевидению. Что изменилось?
— Ничего не изменилось, я просто начал давать интервью. Я не давал их никому, а теперь всем даю интервью. Изменилась моя позиция. Ну, потому что я эти 10 лет не давал интервью и считал, что об этом проекте нет смысла говорить в прессе, потому что он еще не вышел. Только в форме художественного перформанса — инсталляции в Париже. Но во все эти периоды он принадлежал миру, который был создан нами, поэтому я считал себя вправе определять правило — говорение или неговорение о нем. Внутри правила «неговорения» мне казалось, что это правильно, потому что, во-первых, мне не нравится сама система, когда режиссер начинает что-то объяснять и все становится «как бы правдой». Хотя это, на самом деле, просто слова. Никто не знает, что он (режиссер) на самом деле делал. А если он знает, что делал, то не знает, что сделал. То есть это такая очень тонкая история. И потом это соавторский проект. Не я один его делал. Мне кажется, некорректно, когда все упирается с одного человека. Это неправильно. Поэтому я и дал интервью.
— Сейчас публичный показ на Берлинале, и, значит, уже можно говорить о фильме.
— Я перешел в конвенциональный мир, в котором есть свои правила. С пресс-конференциями и так далее. Если я сюда пришел, надо играть по правилам. Если правила определяю я, то все происходит по ним, а если иду играть по чужим, то должен им соответствовать.
— Это было легкое решение? Я объясню: месяц назад мы разговаривали в Петербурге с Владимиром Мартыновым, великим русским композитором и участником проекта «Дау» на всех стадиях. Он сказал, что Берлинский кинофестиваль — это еще не победа. Потому что «Дау» не планировался как проект для обычного кинофестиваля. Он должен демонстрироваться иначе. И в нем не могло быть соревновательного элемента. А сейчас вы говорите про новые правила
— «Дау» — это проект, устроенный так, что в нем всегда были правила и мы старались их не нарушать. Мы могли их поменять, но не могли нарушать. Мне кажется, здесь важно понимать, в какой момент реальность, которую ты делаешь, исчерпывается. В какой-то момент ты должен начинать что-то переосознавать и делать по-другому. Премьера проекта должна была состояться в городе Берлине, сначала в 2017-м, затем в 2018 году. В центре города девять блоков домов должны были быть закрыты Берлинской стеной, построенной за одну ночь, и внутри этой территории должны были пускать показы. К сожалению, несмотря на то, что проект поддерживал и мэр города, господин (Михаэль) Мюллер, и президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер, и министр иностранных дел, и министр культуры, и всякие большие разные чиновники, внутри определенной политической конфигурации начался скандал и проект был запрещен. Мы сейчас знаем, что это было манипулятивное движение бургомистра района Митте, но это уже детали.

— При этом официальное объяснение — чуть ли не нарушение пожарной безопасности...
— Совершенно верно. Потом журналисты-расследователи газеты Süddeutsche Zeitung провели расследование, и — поскольку вся информация здесь публичная — обнаружили переписку, в которой бургомистр центрального района Берлина дает указание руководителям своих департаментов не иметь с нами дел, уходить в отпуск, брать больничные за несколько недель до официального запрета. Поэтому это абсолютно манипулятивная вещь, но это так произошло, два раза не состоялась премьера в Берлине. В Париже она состоялась, но очень тяжело. Мы собирались начать сразу в двух театрах с мостом между ними, а в результате начали в одном театре… Это все проходило через большие сложности. Хотя в Париже проект поддержали и мэр города Анн Идальго, которая более принципиально боролась за него, и руководство Центра Помпиду, и так далее. Но здесь, в Берлине, этот тип реальности в какой-то момент закончился, он исчерпался. Был план больших премьер, как в Париже, и затем выхода цифровой платформы — DAU Digital.
— Те самые 700 часов?
— Это 700 часов кино, снятого на 35 миллиметров, четыре тысячи часов звука, более полумиллиона фотографий. Многие годы все тегировалось несколькими десятками философов, культурологов, ученых, религиозных деятелей. То есть весь материал проанализирован, и поэтому в зависимости от того, как вы смотрите — и кто вы, — вы будете смотреть всегда свой собственный фильм. И вот в этом отношении продуктом являются эти 700 часов. А то, что показывается здесь, — это трейлеры. Поэтому у меня нет созидательного эффекта, потому что это как бы частицы, которые двигаются в вакууме.
— То есть это не перераспределение ценностей? Потому что мне казалось, что как раз решение отдать «Дау» на фестиваль — своеобразное признание, что фильмы — это центральная часть проекта.
— Понимаете, какая история... Я не очень хорошо знал физику до того, как начал заниматься этим. И сейчас я знаю ее плохо, но мои друзья-физики, когда снимались в этом проекте, объяснили мне кое-что про квантовый мир, где все существует в зависимости от точки зрения наблюдателя. Потому что мир очень многообразен. Если смотреть из мира кино, то кинематографисты поздравляют меня с тем, что фильм на Берлинском кинофестивале. Мне это абсолютно непонятно. Если смотреть из мира современного искусства, они вообще не видят этого факта, Берлинале для них не существует — они даже не в курсе о его существовании. Является ли этот проект фильмами? Те продукты, которые здесь (на фестивале) есть, являются фильмами тоже. Является ли это огромной инсталляцией или перформансом? Предложения от ведущих музеев мира, которые мы получаем, подтверждают, что да. Они воспринимают киноматериал как часть инсталляции. Является ли это инновационным проектом? Да. В этом смысле это зависит от точки зрения. Но для меня важно, чтобы этот проект жил, потому что это мой долг перед теми людьми, которые этот проект со мной вместе делали, и перед теми людьми, которые должны этот проект смотреть. Потому что, как мы с вами знаем, кино — в отличие от, например, живописи или музыки — искусство не то чтобы скоропортящееся, но имеющее определенную актуальность в определенный момент времени. И поэтому важно, чтобы диалог между материалом, между кино и зрителем происходил в тот момент времени, в котором мы существуем. Берлинский фестиваль и другие фестивали — это способ, прежде всего, удерживать дискуссию, разговор об этом проекте.
Кино — в отличие от, например, живописи или музыки — искусство не то чтобы скоропортящееся, но имеющее определенную актуальность в определенный момент времени.
— Ну а то, что впервые «Дау» вот так вот публично будет показан в Берлине, в этом есть такой элемент реванша за ту несостоявшуюся премьеру? Или это разные истории?
— Нет, это абсолютно разные истории. И это не моя инициатива — здесь быть. Директор фестиваля Карло Шатриан меня пригласил сюда и долго уговаривал.
— Тьерри Фремо (директор Каннского кинофестиваля) вас вроде бы тоже уговаривал. Или не уговаривал?
— Ну, оставим это. Мы уже находимся в Берлине, поэтому будем говорить про Берлин. Есть еще такая логика, что многие из тех, кто работал вместе со мной, — это берлинцы. И Екатерина Эртель, мой сорежиссер в фильме «Дау. Наташа» и главный художник по гриму проекта, и Юрген Юргес, оператор, и продюсер Сюзанна Мариан. Поэтому это в каком-то смысле проект и берлинский, немецкий тоже. У меня нет лирического отношения к Берлину, для меня это был тяжелый опыт по затратам во всех отношениях. Но жизнь движется, и у нее бывают разные аспекты. Но показы на Берлинале — это не впервые. Впервые проект появился в Париже, фильмы были в другом виде, в виде материала, который должен был выходить и выходить. А вот эти фильмы («Дау. Наташа» и «Дау. Дегенерация») появляются на территории, где живут фильмы, и называется она — фестиваль. И дальше — кинотеатры.
— Чтобы закончить парижскую историю годичной давности. Когда вы рассказываете обо всех составляющих «Дау», кроме кино, это невероятно интригует. Но в Париже, по крайней мере частично, они были реализованы. Помню, говорилось, что наши ответы при подаче на визу (так назывались билеты на премьеру «Дау». — «РБК Стиль») будут влиять на то, что мы увидим. Кабинки с собеседниками, психологами, священниками, как угодно их можно называть, были частью проекта. На деле же, насколько я понимаю, ответы не использовались. Человек просто заходил и шел смотреть кино. А внизу были бар и выставка-инсталляция.
— Здесь есть два элемента. Из-за того что мы получили здание в другой кондиции и на полтора месяца позже, чем планировалось, некоторые технологические элементы, связанные с тем, как работает система, реализовать не удалось — не хватило времени. Тем не менее важен не сам факт использования ваших ответов, а того, что вы вообще отвечаете на них. История про вас заключается в том, что вы совершаете акты на территории своей жизни. Все разворачивается только на территории нашего сознания и в тот момент, когда вы совершаете усилия определенного рода, например получаете визу… Кстати, чем виза от билета отличается? В принципе, ведь ничем.
— Ничем. Лишними усилиями при ее получении.
— Усилиями. И тем, что у вас есть персонализированный документ. С персонализацией вы понимаете, что принадлежите к некой территории. Многие до сих пор хранят эти визы. Я встречаю людей, которые держат их при себе как личный документ. Вся система отношений внутри вот этой «Дау»-территории, которая была в Париже, — между показом, разговором, едой, выпиванием, лежанием и гулянием — подразумевала то, что вы находитесь на территории, где вам кажется, что все решаете вы. Поэтому у нас, например, основным ответом сотрудников на любой вопрос посетителей было «не знаю». В этом смысле человек, привыкший к системе обслуживания — я купил билет и теперь жду, что мне покажут это, дадут то, что еще дают за эти деньги, как еще меня здесь развлекут, — оказался потерянным в каком-то смысле. Непонятно, ему не дают никаких правил существования.
— А то и раздраженным.
— Раздраженным очень часто. Например, мы меняли цены в баре. Рюмка водки могла стоить 15 евро, а могла 2 евро. Цены все время двигались в течение дня. И люди возмущались, как только что-то дорожало. Я говорил: «А почему вы не возмущаетесь, когда так дешевеет?» Таким образом, раздражение и нераздражение — какая-то положительная реакция — это все-таки не высокие эмоции. Это что-то, что тебя в какой-то момент выводит потенциально в состояние, из которого ты можешь чувствовать нечто другое. Тебе нужно «вынуться» из нормального, ежедневного бытия, в котором ты приходишь на такое событие или на другое. Сейчас уже их бесконечное количество, бесконечное разнообразие замечательных событий. Но внутри них ты понимаешь код, через который переживаешь. Мне было важно, чтобы человек, находясь на премьере в Париже, был выбит из стандартного типа восприятия, чтобы он начал внутри этого мира как-то находить свое место.
— А почему именно фильм «Дау. Наташа» вы выбрали для участия в конкурсе Берлинале?
— Его не я выбрал. Это был совместный выбор с дирекцией фестиваля — и «Дау. Наташа», и «Дау. Дегенерация». Мне кажется, эти фильмы важны для Берлина и для немецкой публики. Потому что все упирается в территорию, где вы находитесь. Берлинале — это зрительский фестиваль, настолько зрительский, что на «Дау» билеты были раскуплены меньше, чем за полминуты. Но факт в том, что есть какие-то части истории, в которых предполагается связь с моментом времени и места. Вот эти две истории — «Дау. Наташа» и «Дау. Дегенерация», — мне кажется, здесь вполне связаны. «Дау. Дегенерация» рассказывает о том, как крайне правые силы и через какие механизмы приходят к власти. Мне кажется, для Германии, как и для многих европейских стран, это очень актуально. Некоторые фильмы я никогда не показывал даже в материале или показывал совсем куски, и они будут еще выходить в течение этого года.

— Где?
— Вы увидите где. И на фестивалях, и в прокате. То есть составляющие проекта будут заполнять те ниши, в которых располагаются художественные продукты. В частности, будет несколько книг — сейчас они издаются западными ведущими издательствами, — связанных в «Дау», выходят музыкальные диски, будут выставки. То есть все существующие как бы зоны, в которых живет искусство, в них проект будет жить. И в частности, фильмы будут жить на фестивалях и в прокате.
— Именно с «Дау. Наташа» были связаны и заочные, и очные вопросы и претензии к проекту.
— А что такое очные претензии?
— Заочные — от тех, кто не видел, очные — от тех, кто посмотрел. Они видят, что Владимир Ажиппо, реальный экс-сотрудник спецслужб, действительно мучает женщину в кадре, она правда мучается, и это идет в полнейший разрез с новой этикой мира.
— А «мучается» — это что? Например, столько раз упоминаемая сцена с бутылкой — если смотреть, там нет факта «вхождения» бутылки. Но эмоционально все, что происходит в проекте, является правдой всегда. Правдой в неком условном мире. Если это для зрителей страшнее и они могут что-то почувствовать, то это замечательно. Это значит, что и моя работа, и работа тех, кто в проекте принимал участие, — актеров и Владимира Ажиппы, к сожалению, ныне покойного, и Наташи, и других людей, — что все имеет смысл. Например, в Париже к Наташе подошла Моника Белуччи, поцеловала ей руку, сказав, что она выдающаяся, ее любимая актриса, она была абсолютно потрясена ее игрой, просто нет ни одной актрисы в мире, которая могла бы это сделать.
— А вот игрой ли?
— Как вы разграничите, что такое игра, а что такое не игра?
— Мне кажется, это зависит от режиссерского метода, о котором я как раз и спрашиваю.
— А мне кажется, это зависит от вашего взгляда.
— Как вы режиссировали эти сцены? Находились ли вы на площадке? Одно дело — вы руководите, говорите: «Ты мучаешь ее...» Я, естественно, очень упрощаю.
— Так я обычно и говорил (смеется).
— Либо вы как-то провоцируете на это, либо эти ситуации развиваются сами? Мне кажется, от этого зависит, в том числе, и мой личный ответ, мое личное отношение к тому, что я вижу.
— Знаете, все-таки все разворачивается внутри согласованного взгляда. Как мне говорили: «Это не кино» или «Это кино». А кто определяет, кино это или нет? Вот это актер, а это не актер. Как вы определите? Образованием? Чем это определяется? Вот человек мучается или не мучается? Можно ли испытывать сильные эмоции? И можно ли — внутри договора? А это вопрос сговора. Даже есть такое понятие в режиссуре, когда говорят про работу с актером, — сговариваться. Вы с ним сговариваетесь об определенных правилах, внутри этих правил актеры всегда идут далеко в эмоциональном плане. Чем лучше и бесстрашнее актер, тем дальше он идет в эмоциях. Если мы не говорим про театр «Но» или театр «Кабуки», в которых другие правила. Если говорим про театр или кино психологическое, буквальное, предельное. Здесь, мне кажется, лучше бы люди, включая киноведов и кинокритиков, и других деятелей культуры, переживали не о продуктах художественных, а о том, как они общаются, как живут свою жизнь. Мы же мучаем людей в жизни намного больше. Так устроены люди. Мы вступаем с ними в отношения, на кого-то обижаемся, переживаем. За этим очень сложно следить. Очень сложно отрефлексировать собственную жизнь. Но очень легко, как выясняется, отрефлексировать жизнь чужую, особенно жизнь в художественном продукте. И здесь, мне кажется, важно разделять жизнь и искусство и не забывать, что это предмет искусства и культуры, этот проект является фактом этого мира, а не другого. Что это значит? Что законы, по которым он создается, другие. Что такое процесс съемки на кинопленку, как он устроен? Кинопленка означает, что есть грим, костюмы, есть камера, у нее заканчивается кассета, ее меняют, есть фокус-пуллер, есть оператор. Камера находится близко, двигается, шумит, шуршит. То есть некий очень сложный технологический процесс, который не совсем имеет отношения к реальности, хотя он фиксирует вот эту построенную субреальность.
— Вы сейчас описываете классический кинопроцесс, а ведь вся мифология вокруг «Дау» строилась на том, что традиционный кинопроцесс был перевернут. И пускай снимался он на пленку, но снимался совершенно иначе, это не то что «камера, мотор, поехали».
— Ну, «камера, мотор» и «поехали» не говорилось, но хлопушку-то мы снимали. Это же технологический процесс, ну как, я всегда был на площадке. За территорией института были построены комнаты, группа передвигалась по периметру. В этих комнатах стоял плейбэк, работала группа, сидели гримеры, ассистенты, лоудеры и так далее. Через секретные двери мы могли входить внутрь территории и передвигаться.
Очень сложно отрефлексировать собственную жизнь. Но очень легко, как выясняется, отрефлексировать жизнь чужую, особенно жизнь в художественном продукте.
— Но актеры, участники проекта... Кстати, как правильнее их называть?
— Как хотите, как вам больше нравится. Но актеры — лучше.
— Люди в кадре. Они всегда знали, что камера включена? Знали, когда они попадают в кадр?
— А вы кино занимаетесь?
— Я сам его не снимаю, я про него рассказываю.
— Но вы на съемочной площадке были раньше?
— На съемочных площадках — не раз.
— Но видели когда-нибудь, как на пленку кино снимают?
— Да.
— Как вы считаете, видно, когда камера начинает работать, или нет?
— Да. Мы разговаривали в Париже с Юргеном Юргесом, и он говорил, что в его карьере прежде не было подобного метода съемки. Поэтому то, что я видел на съемочных площадках, явно отличалось от вашего метода.
— Смотрите, здесь есть два аспекта. Один — это метод работы с актером, со светом, с камерой. Они, конечно, абсолютно другие. Не такие, как в стандартном кино. Если говорить о том, как устроено кино как таковое, то есть на уровне вашего вопроса не про метод, а про выяснение этических норм, то разговор будет не профессиональный, а этический. Он не будет иметь прямого отношения к профессии в кино. Я поэтому к такому разговору не иду. Неужели я буду вам рассказывать, как Юрген Юргес изобрел другую систему расстановки света? Это не значит, что разговор, который мы ведем, не должен быть, просто в нем другие правила. Вот как мы говорим, что одни правила в мире, в котором существовал «Дау» в Париже, и другие правила здесь. В Берлине есть правило, которое заключается в том, что если фильм в конкурсе, нужно давать пресс-конференции и интервью, и я очень законопослушный человек, я по этим правилам действую — даю интервью, например. Когда мы рассказываем про этику, есть одна вещь, связанная с тем, что перемешано понимание реальности и художественного процесса. И этики в реальности и в художественном процессе. Дальше, естественно, возникает вопрос про этику как таковую, этику современную. Но здесь, мне кажется, я вам по одной части ответил. А если говорить о том, насколько эмоционально можно говорить с людьми... Мы всегда на собеседовании говорили про смерть, про секс, про любовь, про страдания, то есть заходили, исходя из новой парадигмы, в общем, на личную территорию. Но искусство и занимается территорий личной, которая часто намного более интимна, территория души, чем территория тела. И она, конечно, очень хрупкая эта территория.
— Когда вы настаиваете на разграничении, эта мысль обескураживает. Потому что все, что я знал и что я думал о «Дау», сводилось к тому, что его идея — смешать искусство с жизнью. Чтобы жизнь перетекала в искусство, чтобы они перестали отделяться друг от друга.
— Понимаете, все зависит от «квантового» взгляда наблюдателя. Мы говорим на разных уровнях, как бы находясь на разных этажах. Есть этаж профессиональный, где мы можем говорить о тех уникальных кинематографических, профессиональных открытиях (а это факт), которые мы сделали с этим проектом. Есть этаж, где мы обсуждаем этику, то есть что можно делать, что нельзя на территории искусства и территории жизни. Третий этаж — что такое жизнь и что такое искусство в более высоком, сложном смысле, где эти границы. Четвертый — что человек вообще может жертвовать и отдавать, и где граница его включенности, и что такое время. Это все разные типы. Так же, как с бюджетом — вот у вас огромный бюджет, он огромный с одной точки зрения, но совершенно небольшой с другой.

— Вы сами сказали про новую этику. Представления об этике изменились за те десять лет, сколько живет проект «Дау».
— 15 лет он живет.
— Когда вы его начинали, это был другой мир, от каких-то деталей — Россия и Украина вместе деньги давали — до вообще представления о жизни. Понятно, что это сослагательное наклонение, но если бы вы сейчас его начинали, возможен ли был бы «Дау» сейчас лично для вас? Вы чувствуете, что мир переменился кардинально?
— Что такое кардинально? Меняются некие формы отношений с жизнью человека. Например, в юном поколении, к которому относится мой сын — ему 21 год. Вот в его поколении у них другие отношения с сексом и со смертью, они по-другому устроены. Это определяет этику. И другие отношения с природой, другие отношения с миром — и видимым, и невидимым. В этом смысле я считаю, что мы живем в захватывающее время, уникальное. Я невероятно взбудоражен тем, что будет происходить дальше, мне это очень интересно. Но в каждом моменте времени...
— А что именно вас так будоражит?
— То, что технологический мир так меняется, то, что ты можешь теперь при помощи техники видеть самого себя и рефлексировать самого себя. Это же невероятно. Любой человек может записывать себя, смотреть на себя и учиться от себя. Он в состоянии отделить свое внутреннее тело от физического. Мы понимаем, точнее, начинаем понимать, кто мы такие. Мы живем в прозрачном мире, это совершенно невероятно, захватывающе. Что будет происходить в тот момент, когда исчезнет ложь, ну технологически. Вы понимаете, что ваш телефон про вас знает настолько много, что вы не можете ему соврать?
— Ну, там и лжи достаточно.
— Где? В текстах? Или в том, на что вы тратите деньги, что вы смотрите, куда и когда вы приходите, как восстанавливаетесь?
— Илья Андреевич, инстаграм-аккаунт любого человека — это максимальная ложь, которую только можно представить.
— А причем здесь инстаграм-аккаунт? Мы говорим про данные. Инстаграм — это мельчайший элемент, ничего не значащий. Ваш телефон знает подробнейшим образом, как вы двигаетесь, и исходя из этого, он высчитывает среднее и понимает, кто вы на самом деле. Вы не знаете, а телефон знает. И даже психолог этого знать не может. Куда вы едете, где останавливаетесь, что вы едите, на что вы тратите деньги, сколько секунд вы смотрите, какой тип ресурса. Он высчитывает среднее и общее постоянно, находится рядом годами и знает, что с вами происходит ежедневно, ежесекундно. Сколько вы спите, как вы спите, с какой температурой вы спите...
— Вы хотите сказать, что эта информация точнее, чем то, что о себе думаю я?
— Это я вам могу гарантировать, но вы и сами, наверное, догадываетесь. Я не знаю, что вы о себе думаете, не сомневаюсь, что думаете о себе хорошо, по вам не видно...
— Можно сомневаться, ну да ладно...
— Нет? Ну я хочу, чтобы вы думали о себе хорошо, вы замечательный, живой человек. Но мне кажется, то, что человек про себя думает, — это вообще другая история. Сейчас появляется возможность отрефлексировать самого себя. И появляется связь между людьми. Вспомните, казалось, что такая связь или глобализация, чудовищна, что она пожирает культуры. А потом она оказалась чем-то большим, другим типом соединения культур. Сингулярностью, которая, скорее всего, нам предстоит не только технологическая. Возможно, будет какое-то соединение сознания. Роль культуры и искусства растет, потому что у людей будет образовываться все больше и больше свободного времени. А на что они его будут тратить? На креативность, на творчество. Это не мое мнение, это результаты исследований. Мы живем в мире, в котором у людей появляется время не только на процесс выживания. Как люди жили тысячелетиями: они бились и воевали за то, чтобы не умереть с голоду. Сейчас это тоже происходит, но уже в несопоставимых масштабах. В прошлом весь мир воевал за кусок хлеба. А теперь наступает время возможностей рефлексировать, думать, развивать собственную душу, дух и сознание. И я считаю, что это абсолютно захватывающе.
Полную версию интервью смотрите в нашем видеодневнике с Берлинского кинофестиваля.