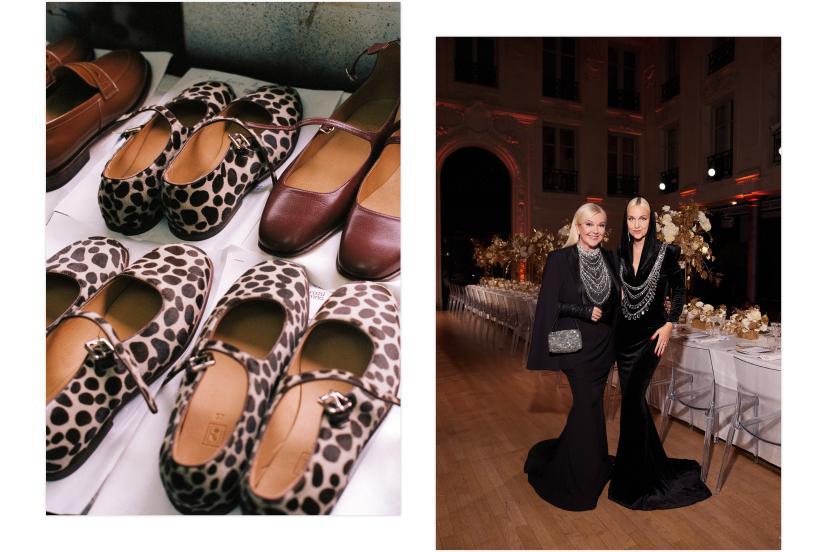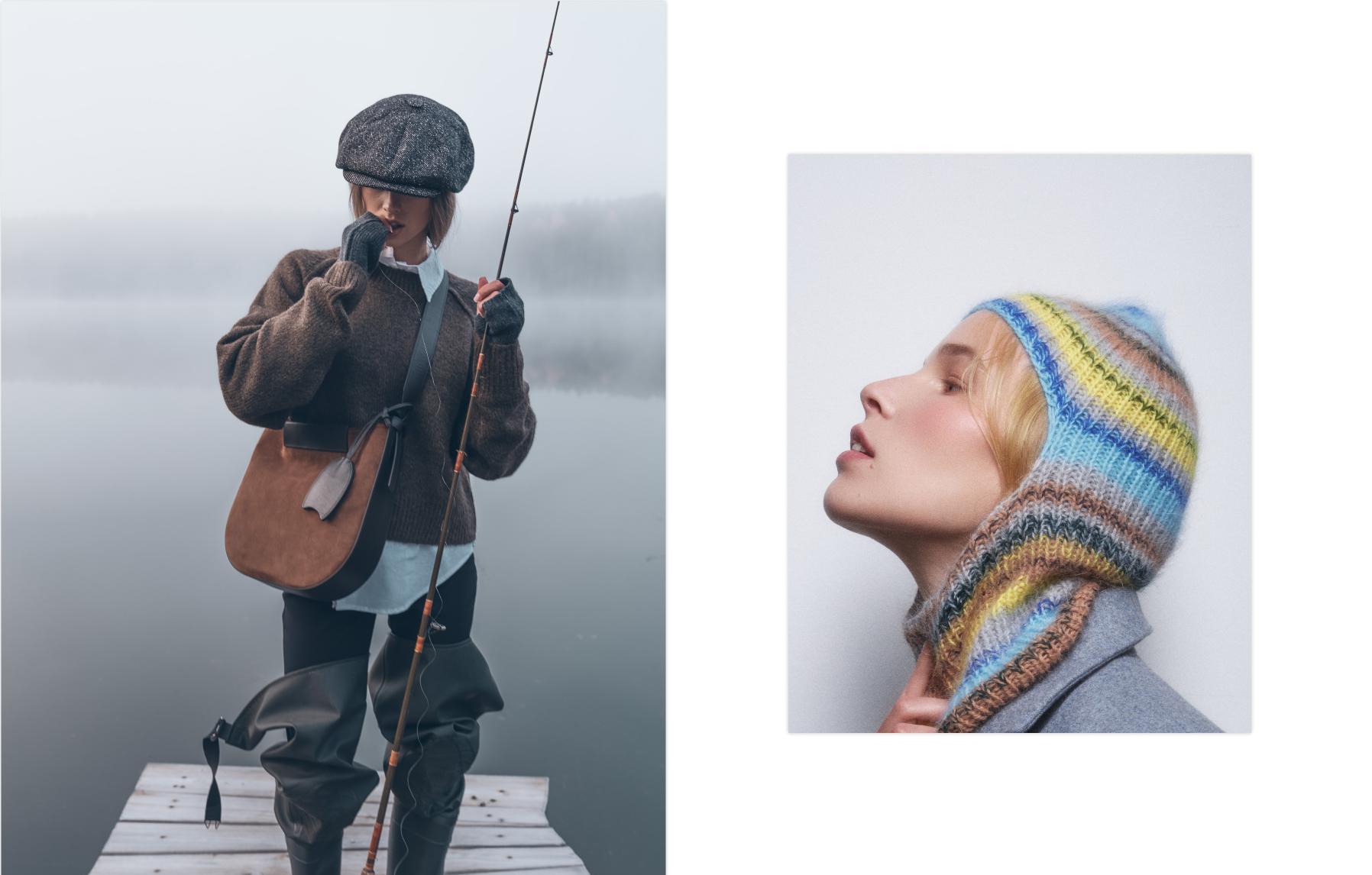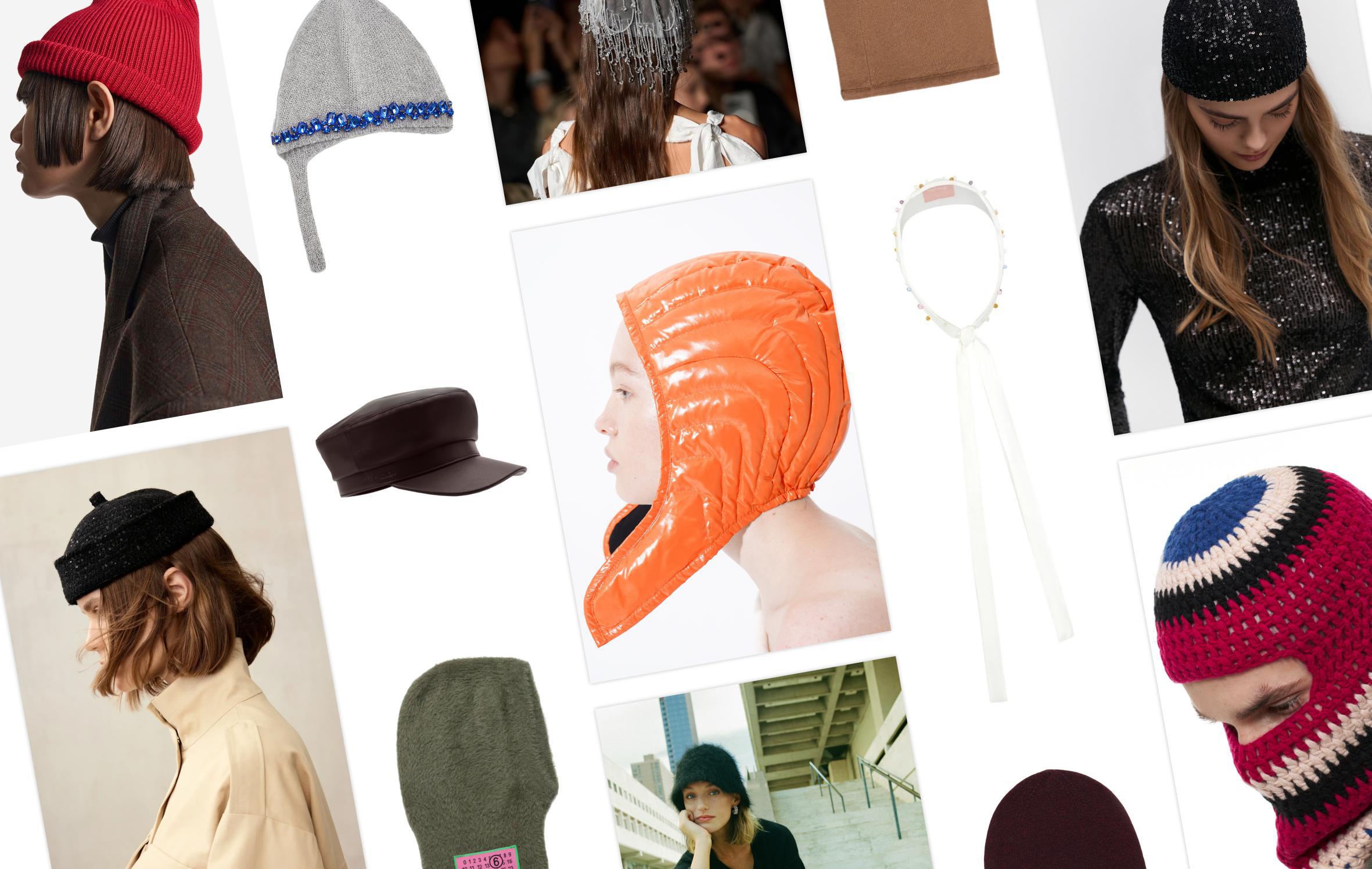Гузель Яхина — о Чулпан Хаматовой, сталинистах и любимых сериалах

Про Гузель Яхину заговорили пять лет назад, когда в журнале «Сибирские огни» вышли несколько глав романа «Зулейха открывает глаза», выросшего из ее дипломной работы в Московской школе кино. История татарской крестьянки, которую в 30-е годы сослали в Сибирь, принесла дебютантке «Большую книгу». В 2018 году Яхина выпустила роман про поволжских немцев «Дети мои» и стала автором «Тотального диктанта». Игорь Кириенков обсудил с писательницей, в чем разница между сочинением прозы и сценариев, какими книгами она восхищается и почему современная русская литература заворожена прошлым.
— Вы закончили Московскую школу кино. Что для вас оказалось самым ценным за время обучения — как для автора и как для человека?
— Главный человеческий урок, конечно, в том, что не нужно бояться своих желаний. Я мечтала узнать профессиональный мир кино с детства: уже в 13 лет хотела стать сценаристом или режиссером. Прошло больше 20 лет, до тех пор пока я разрешила себе получить это образование и окунуться в этот процесс.
Если говорить о профессиональном опыте, то лишь после окончания школы и нескольких лет работы над своими проектами я наконец смогла для себя определить принципиальную разницу между литературой и сценаристикой. Она заключается в степени свободы. Сценарист одновременно зависит от мнения других людей (режиссеров, продюсеров, актеров), требований производства и очень жестких правил кино. В литературе таких ограничений нет.
— А что это были за проекты?
— Они пока не запущены. Один зачах на стадии сценария после семи или восьми месяцев работы. Второй — моя собственная история, с нуля придуманная в Школе. Это истерн (сюжет с восточным колоритом, придуманный по аналогии с вестерном. — «РБК Стиль») про ранние советские годы в Туркестане; очень жанровый телевизионный продукт, который я сначала попробовала представить в виде литературного произведения, но вскоре поняла, что этот сюжет можно рассказать только языком кино. Я разрешила себе написать несерьезную вещь, развлекалась как могла — и почувствовала легкость, которая и позволила мне быстро закончить эту историю.
— На рынке сейчас уйма книг о кино- и теледраматургии. Какие вам кажутся самыми полезными? Что вообще стоит прочитать начинающему сценаристу?
— Я очень люблю «Бегущую с волками» юнгианского психоаналитика Клариссы Эстес: ее книга посвящена проявлению женского архетипа в мифах и сказаниях разных народов. Жутко интересная вещь, которую можно читать с любой страницы и в любом настроении. Эта работа написана достаточно сложным языком, но если вы преодолеете первые 100 страниц, дальше пойдет как по маслу. Конечно, классика жанра — «Анатомия истории» Джона Труби; она у меня вся в пометках. Правда, я больше ценю его лекции о жанрах: их конспекты попали мне в руки почти контрабандным путем. Для меня это такой чемоданчик с инструментами, к которому я постоянно обращалась при написании рабочих сценариев и обоих романов. Александр Талал был нашим преподавателем, и его «Миф и жизнь в кино» помог лучше понять, как связаны миф, реальность и сторителлинг. Конечно, никуда без «Путешествия писателя» Кристофера Воглера, «Истории на миллион» Роберта Макки и «Кино между адом и раем» Александра Митты — ее я прочла сначала в библиотеке, а потом купила домой. Могу посоветовать «Драматургию фильма» Леонида Нехорошева — это очень внятный советский учебник по кино; что-то такое, наверное, можно было услышать на лекциях во ВГИКе лет сорок назад. Интересная фигура в индустрии — сценарист и драматург Александр Молчанов, который сейчас занимается технологиями творчества. Его книга «Пишется!» — сборник советов о том, как организовать писательский быт, — чуть ли не самая практичная из всех, что я знаю.

— Пару лет назад вы назвали «Оттепель» и «Оливию Киттеридж» своими любимыми сериалами. Что вы смотрите сейчас и что последнее вам понравилось?
— Самое важное — что российские сериалы наконец стали темой для обсуждения: когда-то мы об этом только мечтали. Номер один для меня — «Звоните ДиКаприо!» Жоры Крыжовникова. Это блестящая работа в очень сложном жанре трагикомедии: страшное и смешное очень естественно и быстро перетекают друг в друга, и зритель все восемь серий проводит на эмоциональных качелях. Это определенно лучшая роль Александра Петрова. Я бы также назвала сериал совсем другого формата — «Домашний арест», где у каждого актера есть свои звездные минуты, во время которых ты хохочешь в голос. Правда, мне показалось, что первые эпизоды несколько простоваты, но серии с третьей я поняла, что это здорово. «Арест» в этом смысле почти уникальный сериал: чем дальше смотришь, тем лучше становится.
Теперь про западное. «МатьОтецСын» начинался как невероятно крутая драма, а потом вдруг пошел триллер, и это здорово удешевило весь сериал. Зато обязательно нужно смотреть «Чернобыль» — невзирая на все шероховатости. Отдадим должное его авторам: они постарались достичь максимальной аутентичности и тщательно воссоздать историческую правду. Конечно, в том, что касается каких-то социально-психологических аспектов, это порой не очень достоверно, но все же простительно: сериал создан с огромной страстью.
— Давайте поговорим про «Зулейху». Ваша книга была опубликована в 2015-м — сериал выходит спустя четыре года. На ваш взгляд, изменилось ли за это время отношение читателей к героине и романным коллизиям?
— Вряд ли — ну, или, точнее, я не ощущаю этих изменений. Но я рада по-прежнему получать письма, в которых люди делятся историями своих бабушек и дедушек, которые пережили что-то подобное: раскулачивание, ссылку, эмиграцию.
— Вы мечтали увидеть в главной роли Чулпан Хаматову — в итоге она ее и сыграла. Как вы познакомились?
— Впервые мы встретились в апреле 2016 года в Петербурге: на «Открытых диалогах» в библиотеке Маяковского мы как раз говорили о книге, казанском детстве и татарском в нас. Как выяснилось, она тоже хотела сыграть Зулейху. Мы встречались в сентябре прошлого года в декорациях поселка Семрук, который был построен на берегах Камы в часе езды от Казани. Чулпан задавала вопросы, когда считала нужным; я отвечала, старалась помочь — ей и команде в целом.
Например, мы обсуждали использование татарского языка. В романе эта проблема решена просто: он написан по-русски с вкраплениями татарских слов — так читатель может понять, когда герои говорят по-татарски. Но как это сделать на экране? Был вариант заставить актеров говорить по-татарски, но читать субтитры на протяжении нескольких серий не очень удобно. Другое предложение — чтобы актеры говорили с легким татарским акцентом: от него тоже, к счастью, отказались. В итоге в сериале осталась чистая русская речь: надеюсь, зрителю будет понятно, что когда действие разворачивается в деревне, герои говорят на татарском, а когда в Сибири — на русском.












— Вы говорили, что не принимали участия в непосредственной работе над сценарием — только делились комментариями от прочитанного. Что из книги не попало в телеверсию, а что, напротив, появилось?
— Вообще все сделано довольно близко к тексту, и мне очень приятно, что сценаристам пригодились какие-то вещи, которые были в моем дипломном сценарии, но не вошли в роман. Добавились также предыстории героев, которых Зулейха встречает на поселении, — питерской интеллигенции, составляющей костяк Семрука. Понятно, что по законам жанра в сериале нужен любовный треугольник: так появилась Настасья (ее играет Юлия Пересильд), в которой соединились несколько русских женских персонажей. Жаль некоторых образов, не попавших в сериал: например, в романе раскулаченных встречает охранник-красноармеец, который улыбается железными зубами, — такой вот образ каторжной Сибири.
— Есть ли у вас любимые теле- и киноадаптации?
— Пожалуй, это «Бег» Александра Алова и Владимира Наумова, «Собачье сердце» Владимира Бортко и «Война и мир» Сергея Бондарчука. В советском кино вообще был очень солидный пласт экранизаций, а сейчас это все почему-то ушло. При этом каждый второй фильм на Западе имеет первоисточник, а у нас — при всем богатстве литературной традиции — на порядок меньше.
— А когда пишете сами, представляете, как это будет выглядеть на экране?
— Так было с «Зулейхой», а вот с романом «Дети мои» этот прием уже не сработал. Так что я шла от ощущений, эмоций, чувств героев; писала языком литературы, а не кино.
— Комментируя свои книги, вы говорили, что они — о мифологическом сознании и о способах его преодоления. Почему вас так занимает эта тема?
— Просто в детстве я обожала читать сказки. До какого-то возраста сидела только за ними. Сказки братьев Гримм, татарские волшебные сказки и мифы Древней Греции — любимые книги, которые всегда были со мной.

— Оба ваших романа — о прошлом. Чувствуете ли вы нехватку современности в сегодняшней прозе, искусстве, общественной жизни?
— Да, конечно. Я сама очень хотела бы написать что-то о современности, но у меня пока получился только один рассказ «Швайпольт». Он вышел в литературном номере Esquire по-русски и отдельной книжечкой — на немецком. В Германии ее выпустил очень креативный издатель: он сам сделал обложку, чернила и нитки. Это история о книжном барыге, который всю жизнь зарабатывал на текстах, как и его отец, дед и прадед. Больше ничем похвастаться не могу. Я не очень понимаю, каким языком рассказывать о современности так же ярко и увлекательно, как и о прошлом, но вижу, что с этим прекрасно справляются театр и кино. Например, свежий фильм «Айка» — по-моему, прекрасный образец того, как можно сочетать современность и мифологичность.
— А почему нас вообще постоянно тянет в прошлое?
— У всех, кто воспитан на корпусе русской классики, есть привычка обращаться за ответами назад. Для нас эти герои как живые — я сама какие-то вещи подсматривала у Татьяны Лариной. Вероятно, поэтому так востребован исторический роман. Другая причина — непроработанная, непроговоренная травма прошлого века. Про это время сказано не так уж много правды — теперь мы просто восполняем пробелы.
— Так вышло, что в авангарде борьбы со сталинизмом в России была литература — причем довольно массовая. Почему за прошедшие десятилетия (условно, между «Одним днем Ивана Денисовича» и «Зулейхой») общественные симпатии к этой исторической фигуре так и не сошли на нет?
— Мне всегда грустно слышать новости про памятники, кафе и мемориальные доски, которые открывают в честь Сталина. И, по-моему, это все о том же: травма не проработана. Но важно понимать: тоскуют все-таки не по репрессиям и, может быть, даже не по самой фигуре, а по времени. Те, кому за 70, вспоминают свою молодость. Те, кто младше 20, фантазируют о величии страны, которую они не застали.
— Нельзя не заметить, что действие ваших книг происходит в мультикультурной среде. Как вы считаете, насколько широко в отечественной культуре представлено этническое разнообразие жителей России?
— Многонациональность для меня — выросшей в Казани — совершенно естественная ситуация: отсюда вполне органичное соединение русских, татарских и немецких героев в «Зулейхе». А вот мир «Детей моих» скорее моноэтничный: немцы в Поволжье жили анклавом, так что я навесила сразу много национальностей на одного беспризорника Ваську. Если говорить о писателях, которых занимает описанная вами ситуация, можно вспомнить хотя бы Наринэ Абгарян, Алису Ганиеву и Дениса Осокина.
Я рада по-прежнему получать письма, в которых люди делятся историями своих бабушек и дедушек, которые пережили что-то подобное: раскулачивание, ссылку, эмиграцию.
— Многонациональная среда, с одной стороны, глобальная и открытая, а с другой, очевидно, порождает конфликты. Наивный, может быть, вопрос, но вдруг у вас есть рецепт всеобщего примирения?
— Универсального рецепта точно нет — есть личный опыт. Мы жили в Казани, совершенно не задумываясь, кто какой национальности. В детском саду, школе, институте это не было предметом обсуждения и даже какого-то особенного интереса. Мы все общались на одном — русском — языке. И, наверное, это счастье — так вырасти. Однажды на встрече женщина из Прибалтики пыталась выяснить, какая культура для меня является родной, а какая насажденной — татарская или русская. Я пыталась объяснить, что для меня это органично и что тут нет никакого конфликта. Пыталась — но не сумела.
— Ваш роман «Дети мои» наверняка будут переводить на немецкий. Есть ли у вас уже какая-то реакция от русских, которые живут в Германии — а может, и от самих немцев?
— Немецкий перевод «Детей моих» издан пробным тиражом для журналистов и критиков, чтобы они могли прочитать и что-нибудь написать о романе; основной тираж запланирован на вторую половину августа. В октябре, ноябре и январе я поеду туда представлять книгу. Пока есть отзывы только от российских немцев — и очень теплые. Один из самых трогательных пришел от столетнего дедушки, в судьбе которого переплетаются темы «Зулейхи» и «Детей». Он вырос в Энгельсе, пережил депортацию, оказался на поселении, делал агитацию в клубе, а потом эмигрировал в Германию и там стал художником. Ему пересказали мои книги, и он передал большие приветы.
— А вообще, по вашим ощущениям, западное отношение к писателям из России за последние четыре года как-то изменилось?
— Я очень недавно стала ездить с писателями по миру, так что про изменения сказать не могу. Я просто рассказываю о своих книгах и радуюсь, что это интересно. Вопросы, звучащие на встрече, разные: есть политизированные, но больше тех, которые связаны с темой книги и моим личным отношением к истории. В случае с «Зулейхой» это всегда живой разговор о репрессиях, раскулачивании, ссылке, Сибири и трудовых поселениях.

— Вы рассказывали, что вашим книгам предшествовала объемная исследовательская работа. У вас есть любимый — или как-то на вас повлиявший — нон-фикшен?
— Хочется назвать книгу, которая никак не связана с подготовкой к романам, — «Время колоть лед» Чулпан Хаматовой и Катерины Гордеевой; она вышла в «Редакции Елены Шубиной». Этот диалог двух подруг, рассказ о том, что с ними происходило, становится подведением итогов всего поколения сорокалетних. Я очень хорошо узнавала себя в рассказах Чулпан: воспоминания об исчезнувшей деревянной Казани, непростой период адаптации в большом городе и много мыслей, которые созвучны моим.
— Можете ли вы назвать своих литературных союзников — писателей, которых занимают те же вопросы, что и вас?
— Я бы, наверное, стала говорить о книгах, которые были для меня примерами того, как можно работать с историей. Вот, например, «Чтец» Бернхарда Шлинка — роман, который я считаю образцом великолепной композиции и структуры. «Шум времени» Джулиана Барнса представляет собой невероятную концентрацию авторской мысли: как, сказав так мало слов, сказать так много. И «Благоволительницы» Джонатана Литтелла: автор дал материалу захватить себя, и это выплеснулось в гигантский, ошеломляющий текст.
— А из русскоязычных авторов вы бы кого выделили?
— Я всегда следила и продолжаю следить за Людмилой Улицкой: она, правда, сказала, что больше не будет писать романы. А еще за Евгением Водолазкиным и Алексеем Ивановым: мы все знакомы лично — встречались и общались на выездных мероприятиях.

— Как изменилась ваша жизнь после того, как вы получили «Большую книгу» в 2015 году?
— Изменилась, скорее, внешняя часть жизни: в ней стало больше поездок и встреч; другими словами, появилась публичность, которой раньше не было. А внутреннюю жизнь я стараюсь оберегать, чтобы она оставалась привычной и комфортной для моей семьи.
— Рукопись вашего первого романа попала в «Редакцию Елены Шубиной» благодаря удачному стечению обстоятельств. Как устроена ваша работа с этим издательством сейчас, когда вы стали одним из самых известных российских авторов?
— Я точно не чувствую никакого давления. Елена Даниловна (Елена Шубина — руководительница издательства «Редакция Елены Шубиной». — «РБК Стиль») очень мудрый человек, для нее главное — качество текста, а не срок, в который он будет сдан. «Детей моих» я отправила, когда посчитала, что роман готов, — в последних числах декабря 2017 года. Конец года — это вообще тяжелые дни для издателей: многие писатели подгоняют себя, чтобы не оставлять хвосты.
Итак, есть Елена Даниловна, которой я рассказываю идею книги, некое зерно истории. Есть несколько людей, с которыми могу поделиться незаконченным романом, чтобы понять, насколько текст сильный и тащит за собой. И есть редактор Галина Павловна Беляева, которая вычитывала оба моих романа и проводила очень тонкую шлифовку текста: это касалось стиля и исторической достоверности.
— Пару лет назад в интервью вы сказали, что однажды за день написали почти двадцать тысяч знаков. Как вы отдыхаете?
— Отдыхать, на самом деле, можно как угодно, главное — поймать ощущение, когда ты можешь написать много, научиться входить в этот поток. Ароматические свечки я не жгу, йогой не занимаюсь, а просто стараюсь целиком погрузиться в историю. Но тут можно поймать себя на ощущении, что ты не можешь отключиться: проживаешь сцены, проговариваешь диалоги или просто радуешься тому, что получилось. Так что надо регулярно давать мозгу отдых — подойдут хоть прогулка, хоть беседа, хоть поход в кино или на выставку.