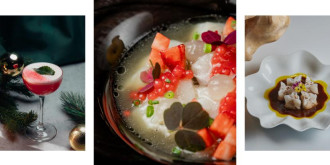Основательница фольклорного ансамбля «Толока» — о традиции и современности

Современный ансамбль фольклорных исполнителей и профессиональных исследователей русской аутентичной музыки «Толóка» выпустил мини-альбом «Калинка-малинка» и в конце мая представит новую программу в Санкт-Петербурге, Москве, Екатеринбурге и Казани. «Толока» сформировалась в 2022 году как экспериментальный проект продюсера Екатерины Ростовцевой и исследовательницы фольклорной музыки и преподавательницы Лизаветы Аньшиной. Со временем он эволюционировал в полноценный независимый ансамбль, объединяющий исполнителей из разных уголков России и через экспедиции, записи и концерты переосмысляющий традиционные песни русских деревень.

Екатерина Ростовцева, художественный руководитель ансамбля фольклорных исполнителей и профессиональных исследователей русской аутентичной музыки «Толока»
О зарождении «Толоки»
«Толока» возникла в 2022 году. Я тогда вернулась [в Россию] из Австрии, где много лет занималась в основном академической музыкой, например, продюсировала проекты Алексея Ретинского с Теодором Курентзисом и musicAeterna. При этом я всегда интересовалась фольклором и работала с разными музыкантами, прекрасно знала современные ансамбли, работающие с традицией, из разных уголков Европы — хоть албанцев, хоть болгар… Но была поражена, что ничего в подобном ключе особо не знала в России, хотя я и моя семья — русские. Уже в России я познакомилась с выдающейся исполнительницей Тиной Кузнецовой, и она посоветовала мне сходить на занятие к Лизавете Аньшиной. Она окончила кафедру этномузыкологии Санкт-Петербургской консерватории, причем она не только замечательный и глубокий исследователь, но прежде всего блестящая исполнительница, а педагогическая практика идет как бы параллельно. И вот я сразу разглядела в ней этот потенциал, что она больше, чем просто педагог, и поняла, что ее амбиции и возможности гораздо шире. Лиза мечтала о своем ансамбле, а я предложила ей реализовать эту мечту и организовать свой собственный коллектив. Лиза согласилась.
Поначалу мы, как и многие, решили собрать коллектив из знакомых исполнителей: отобрали тех, кто хотел бы попробовать или мог поучаствовать и сделали в январе 2023-го первый пробный проект — «Рождественский вертеп» в «Севкабель Порту». Это был совсем маленький состав — четыре человека, кукольный ящик и 12 кукол, аутентичные костюмы и декорации. Получилось такое фактически семейное музыкально-театральное представление. Наш «Вертеп» шел несколько вечеров подряд, и на каждый мгновенно заканчивались билеты: я поняла, что мы попали в какой-то очень тонкий глубокий запрос на некую альтернативу мейнстриму.
После этого некоторое время мы существовали в проектном режиме, назовем это так. Например, сделали летом 2023-го программу musicAeterna folk в Доме радио. Под этот проект уже расширили состав до семи-восьми человек, провели кастинг, к нам приехали исполнители из Твери, Сургута, Москвы, позже переехала исполнительница даже с Ямала. Проект musicAeterna folk завершился, а желание продолжать осталось, и так мы начали свой самостоятельный путь как независимый ансамбль.

Об истоках самобытности проекта
Обычно коллективы, подобные нашему, в России прикреплены к образовательным учреждениям или другим институциям, что создает определенные рамки. Мы же сейчас абсолютно независимы, и это большая свобода и ответственность одновременно: мы занимаемся исследовательской работой так, как считаем нужным, ездим в экспедиции, куда сами решим и можем резко сорваться ради материала, транслируем то, что делаем, в определенном формате. И одновременно за все эти прелести жизни отвечаем тоже сами.
К тому же в «Толоке» собраны, не побоюсь сказать, лучшие исполнители, и мы постоянно хантим к себе кого-то нового, если находим талантливых ребят, особенно мужчин-исполнителей — их просто нет. То есть мы пытаемся создать некую базу и пример, как должна звучать народная музыка, как поднимать ее на высочайший уровень в плане что звучания, что продюсирования, презентации слушателю, чтобы заинтересовать его. Здесь мне, конечно, сильно помогает опыт в продюсировании академической музыки и театральных постановок в Европе.
Мы отталкивались от музыкального материала, от идеи просто создать коллектив и петь, и поначалу даже не думали о собственной идентичности. И только спустя где-то полтора года мы пришли, например, к тому, что если раньше мы использовали традиционные костюмы, специально сотрудничали с дизайнерами, то сейчас выступаем в привычной нам одежде. Ведь когда тебе 19–20 лет, тебе не нужен вообще никакой костюм, а вся эта сценическая история с кокошниками и сарафанами — ну, она не то что неуместна, а просто никакого отношения к нам не имеет, это не про нас. Для нас более органично, честнее, если мы выглядим так, как мы и живем. И то же самое происходит у «Толоки» в коммуникации, скажем в социальных сетях: мы общаемся с нашим слушателем так, как общаемся и мы между собой — открыто и просто. Ведь мы сами, в отличие от наших бабушек и дедушек, — уже городские жители и хотим представлять голос городских жителей, которые любят свою корневую культуру. Нет, они не собираются переезжать в деревню, но нежно любят ее и хотят исследовать.
Об экспедициях
К тому формату исследовательских экспедиций, которые мы сейчас практикуем, мы тоже пришли из интуитивного опыта. Когда мы поехали в первую экспедицию, это было прошлым летом, то сначала попробовали пойти по консерваторскому пути, где есть четкая структура, опросник, и ты садишься, открываешь тетрадку, опрашиваешь, там куча нюансов… И вот, с одной стороны, это как будто «правильно», а с другой — мы поняли, что когда этномузыкологи записывали фольклорные песни в 60–80-е годы прошлого века, они относились к этому не то чтобы утилитарно, но записывали чисто звук, и их, в принципе, не сильно интересовал контекст. Некоторые этномузыкологи в своих воспоминаниях так и пишут, мол, мы были у такой-то бабушки и больше туда не вернемся, потому что это отработанный материал. А что это был за человек, каков был контекст вокруг этой песни, как они жили… Позднее те же ученые в своих трудах признавали, что такой подход был ошибочным и что человек очень важен для понимания народной музыки.
Так вот мы в свои экспедиции ездим не за научными открытиями, потому что чтобы разучить песню, можно использовать как раз архивный материал. А мы, во-первых, всегда всё снимаем, и сейчас, я надеюсь, к осени домонтируем фильм, чтобы показать широкому кругу зрителей и слушателей, что такое народная музыка, как и чем она вообще живет и дышит. А во-вторых, мы сами каждый раз погружаемся в контекст. Потому что когда мы общаемся с бабушками и дедушками, кто непосредственно имеет отношение к этой музыке, кто ее выучил от своих бабушек и дедушек, когда всё передавалось еще из уст в уста, это очень влияет на нас как на исполнителей и на то, как мы потом относимся к этой музыке, как она обогащается через «Толоку» или меняет ансамбль.
Иногда происходят чисто музыкальные уточнения, нам могут что-то интересное рассказать или дать дополнительный какой-то куплет, а иногда — буквально разъяснить применение песни. Так, совсем недавно мы были у курской бабушки, спрашивали про один напев, была ли это свадебная песня. А она говорит, нет, это пели вообще в пост. Для нас это важный напитывающий контекст, потому что часто музыка что-то значит, а порой и вовсе связана с историей страны или региона, с социальными изменениями. Например, у тех же курских бабушек мы расспрашивали про карагод, будучи уверенными, что это такая непрерывная традиция. А нам рассказали, что карагод закончился у них примерно в 1960 году: люди перестали петь, плясать, перестали учить этому детей. И вот ты начинаешь спрашивать, а почему перестали, а тебе рассказывают, что в то время церкву разрушили, а карагод был праздником именно у церкви. А в Липецкой области, по отзывам жителей, я не заметила сильного влияния «хрущевских реформ» на традиционную музыку. Там все говорили и говорят о 90-х, что колхоза не стало, не стало совместного труда, некоего общего действия, когда все вместе могли петь. И если этого действия нет, если оно не заложено каким-то трудовым или ритуальным условием, то все — традиция быстро умирает.







О выборе материала
Чем мы руководствуемся, когда решаем, куда ехать и песни какого региона исследовать следующими? Изначально мы решили сделать цикл фильмов «Экспедиция домой». Идея заключалась в том, что чтобы действительно глубоко понять какую-то культуру, нужно найти проводника, ведь через него происходит подключение к памяти. Понятно, что культура Белгородской области отличается от Псковской, а Псковской — от Архангельской и так далее. Но как в каждом из этих регионов найти проводника? С чего начать? Мы пошли по пути наименьшего сопротивления и подумали, что логично начать с регионов, откуда мы родом. Так на карте наших экспедиций появился Липецк, откуда родом Лиза. Потом Тамбов — откуда мои бабушки и дедушки. Я надеюсь, что у нас получится проехаться по всем регионам, откуда наши исполнители.
Также бывают истории, когда мы получаем конкретный запрос от, допустим, организатора фестиваля. Так в прошлом году у нас случилась поездка в Онегу на фестиваль «Заря».
И еще третий вариант, но это скорее исключение. Вот сейчас у нас будет большой концерт в Москве 24 мая, и на него мы собираем по одной наших курских певуний, которые из-за боевых действий в приграничных районах оказались разбросаны сейчас по регионам: кто в Подмосковье и Ленобласти, кто в районе Суздаля. Хотим уговорить их приехать и спеть с нами несколько песен, хотя им многим по 85 лет и больше. Но это последние исполнители плёховской традиции!
О реакциях, правках и подсказках
Вообще, обычно деревенские классно реагируют, и всегда мы сталкиваемся с очень теплым приемом. Наверное, это в первую очередь от нас зависит: мы не транслируем, что приехали, условно, «городские». К нашей деятельности люди относятся с большой благодарностью, во многом потому что в деревне остается все меньше народу. И когда появляется возможность в полноценном звучании услышать то, что они не слышали со своих, может быть, детских лет, а для них это всё родное… и вот они слышат точно то же и так же, как пела, может, их мама или бабушка, которых уже нет в живых — для них это значимое событие.
Конечно, иногда нас поправляют, замечания какие-то делают, потому что у нас все-таки есть нюанс региональный. Дело в том, что мы все по большей части южные, родня у нас из южных регионов, музыкальный руководитель из Липецка и так далее. И мы, конечно, поем и север тоже, но меньше на нем специализируемся. И как раз в Архангельске у нас был случай. Мы долго добивались встречи с одной бабушкой, и когда наконец с ней встретились, то мы ей спели, и она долго сидела, слушала-слушала, чай пила, а потом кружку опускает и говорит: «ну, красиво поете, да только не по-нашему». И тут, конечно, начался допрос: а как надо? а как правильно? Спеть она нам отказалась — северные люди все же более сдержанные, но пообщались мы очень интересно.
Или, скажем, есть уральские частушки о несчастной любви. Это такая уральская традиционная песня из села Катарач, мы записали ее для одного ютуб-канала, и жители села Катарач как-то это видео нашли, послушали, и нам написала женщина, директор местного ДК, которая помнит тех самых бабушек, как они пели, мол, замечательное у вас исполнение, только вы в одном куплете там напутали и гласные не так произносите. В общем, скоро поедем в Екатеринбург и обязательно к ним заедем: там остался последний дед, 95 лет, из того состава, и я надеюсь, что мы его успеем застать. Исправимся!
О новом мини-альбоме и туре
На самом деле сначала появился тур, а потом альбом. Тур у нас специфический: в каждом городе фактически спецпроект — не совсем концерт, а выступление, совмещение с экспедицией, исследованием. Так, в Москву мы привозим курских бабушек, в Петербург — одну женщину из Липецка с рынка, она потрясающе поет, и гармониста еще! Там целый переговорный процесс — поверьте, ничто не сравнится с переговорами с бабушками и уговорами их приехать.
А альбом называется «Калинка-малинка», и мы намеренно взяли такое клише, которое ассоциируется с типа «русской народной музыкой». При этом на обложке мы выглядим современно — в толстовках, такой стрит-стайл. Мы нарочно так придумали, что возьмем классическую схему, как часто фотографируются фольклористы на фоне рушников и все такое, только с другим посылом.
Что касается формата, то да, это мини-альбом, и мы вообще действуем тактикой мини-альбомов, потому что обычному человеку будет сложно слушать 15 песен народной музыки подряд, а нам — тяжело раскрыть каждую качественно, дать тот самый контекст. Например, мы берем песню Белгородской области, и ее сюжет для современного слушателя… ну, он такой провокативный. Песня очень веселая, подвижная, качает прям жестко, а текст о том, как женщина выходит замуж и попадает в, мягко говоря, не самые счастливые отношения: ее муж — пьяница, он ее ругает, избивает, и она говорит: «Я роду нетаковского, я роду поповского», — а поповский род значит, что человек, в общем, из какой-то уважаемой семьи. И вот она берет мужа за руку, ведет на реку и, короче, топит его: «Посажу тебя на самую глубину, только ручки до ножки видать». Потом идет на горку и смотрит, как он тонет. Решила семейные проблемы и избавилась от отношений с абьюзером, получается.

О молодой городской аудитории и ее интересе к локальному
На наши концерты ходят самые разные люди. Да, жители больших городов, но, как оказалось, не так-то много среди них тех, кто родился в Москве или в Петербурге, в городах — за каждым человеком часто региональная история, у почти любого есть как минимум одна бабушка или один дедушка из деревни, и через семейные связи происходит вот это узнавание.
Плюс в последние годы происходит дестигматизация всего локального, регионального, мы как будто начали понимать, что вообще-то это круто! Люди стали обращаться внутрь за поиском смысла, за чем-то, на что можно опереться. Это происходит глобально, по всему миру на самом деле, но в России сейчас особенно заметно.
И я думаю, что пока что мы еще не достигли пика здесь, что этот тренд на локальное будет только развиваться. Людям будет хотеться лучше знать и понимать свою корневую культуру. Я с любопытством смотрю, до какой степени это углубление может происходить. При этом, как бы парадоксально это ни прозвучало, я не ожидаю какого-то радужного будущего для деревень. Скорее всего, их скоро не станет: мы просто смотрим статистику, количество людей, которые остаются в деревнях, и в этом смысле мы трезво оцениваем наши записи, экспедиции — это не будет продолжаться бесконечно. Передавать нам этот опыт дальше просто некому. Кажется, что еще лет десять — и круг будет разорван. Единственная возможность спасти традицию, которую я тут вижу, — создание школ, институций, которые будут сохранять и передавать опыт, знания, практики. Чтобы, условно, и спустя 30 лет существовал хотя бы один подобный нашему ансамбль, а лучше несколько, которые бы изучали народные песни и пели их, и у слушателя была возможность не только запись включить, а, например, приобщиться к традиции: сходить послушать такую музыку вживую или пойти на занятия и научиться петь самому.