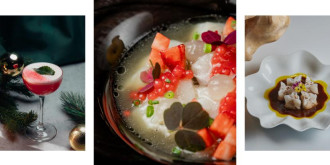Режиссер Никита Кобелев — о глазах смотрящего и театре как инструменте познания

Режиссер Никита Кобелев относится к тем авторам, о широте интересов которых можно уверенно судить по выпускаемым работам. Среди них, к примеру, «Человек, который принял свою жену за шляпу» в Театре Маяковского по книге британского невролога Оливера Сакса — материал для театра, скажем прямо, не самый привычный, или поставленный там же «Кавказский меловой круг» Бертольда Брехта. Недавняя «Тварь» по пьесе Валерия Семеновского в Александринском театре, главным режиссером которого Никита Кобелев был назначен месяц назад, и две премьеры: «Наедине» — независимая постановка, инициированная продюсерским центром «Арт-партнер», и «Жизель Ботаническая» по рассказу Эдуарда Кочергина в МХТ имени Чехова. Документальное и художественное в работах Никиты Кобелева соединяются, как соединяются века и нравы. К примеру, «Наедине» — и вовсе непривычная для отечественного репертуарного театра история. В спектакле по текстам современного американского автора и драматурга Дона Нигро играют Виктория Исакова, Александра Ребенок и Ирина Старшенбаум. У каждой — своя история и свой монолог, не утяжеленные ни большим количеством декораций, ни другими персонажами.
Впрочем, все это — лишь несколько примеров, подтверждающих правило конкретной творческой биографии: широкий интерес к искусству и миру вокруг и стремление слышать себя, работать над ошибками и открывать новое, а неподдельное спокойствие и живой интерес — то, что отличает режиссера в разговоре и свойственно ему в работе.

Мы встретились, чтобы обсудить, почему принять многое в себе получилось не сразу, как неудачный опыт может помочь даже больше, чем удачный, и отчего так важно быть не кем-нибудь, а самим собой.
Спектакль «Наедине» состоит из трех монологов. Кажется, что для нашего театра такая форма скорее исключительна, чем привычна. Какой ее видите вы, помогал ли опыт уже поставленных спектаклей в поиске интонаций?
Для себя внутренне я нашел связность формы с альманахом или триптихом. Допустим, у Киры Муратовой есть ее «Три истории», или «Кофе и сигареты» Джармуша, да и вообще в кино очень много примеров, когда фильм состоит из нескольких независимых историй, генерально объединенных темой. В контексте спектакля это тема женской истории и женской судьбы, но не в социальном ключе, а чуть-чуть в фантазийном, театральном, притчевом и образном. Эти три истории объединяет единая сценография. Для российского театрального контекста проект действительно скорее непривычный, а вот в мире, особенно в Америке, таких спектаклей много. На Бродвее я смотрел, к примеру, постановку с Джейком Джилленхолом: никаких сложносочиненных декораций, фокус на актере.
Что касается моего собственного опыта, у меня бывали похожие задачи в работах, которые я делал в Театре Маяковского, на Сретенке. Среди них «Человек, который принял жену за шляпу» по книге невролога Оливера Сакса или «Новаторы». Актеры там все время разговаривают как бы через зал, рассказывают истории. Но в случае с «Наедине», конечно, в монологах вся суть.
Как вам кажется, в сегодняшнем репертуарном театре такой проект мог бы случиться?
В контексте такого проекта ты можешь поработать в одном спектакле с очень разными и очень большими актрисами из разных театров, соединить и объединить разных людей, что не так легко внутри одного театра, где все запаяно в возможности конкретной труппы. Да и такая монологическая форма тоже мало возможна в репертуарном театре, а мне всегда интересны разные форматы, я вообще постоянно стараюсь пробовать одно, другое, третье.
Это очень заметно по тому материалу, который вы выбираете для постановок. Часто он нетривиален уже сам по себе. Как раз как «Человек, который принял свою жену за шляпу», например. Какие у вас взаимоотношения с произведениями, которые хочется поставить?
Я много думал об этом и понял, что не хочу себя загонять в какие-то рамки, когда сам себе внутренне формулируешь, что будешь делать только так или иначе. Можно заметить, что многие выбирают определенную стратегию: ставить только современные тексты или ставить классические, адаптируя их под сегодняшний день, и так далее. В какой-то момент я думал, что, может быть, надо определяться, не размываться, но потом решил, что надо просто быть собой, а мне интересно многое. Думаю, театр для меня — инструмент познания, не только работа. И тему, которая мне интересна в жизни, я исследую именно с помощью театра, погружаясь в нее.
Что вас впечатляет?
Меня вдохновляют документальные истории, например. О том, что происходит с людьми. Они дают пути к тому, как жить. Я беру то, что меня задевает, но, конечно, еще это должно находиться на каком-то стыке интереса театра. Выбор материала всегда двустороннее движение. С одной стороны, ты чувствуешь театр, который тебя приглашает, какие в нем есть артисты. А с другой — есть и твои желания. Иногда материал — это предложение театра, и я довольно часто откликаюсь на такие приглашения. Иногда бывает так, что материал мне неблизок, я такого раньше не делал, но если вижу какой-то внутренний интерес, то начинаю пробовать. Я люблю такие вызовы и уже в каком-то смысле расслабился на тему выбора материала, не хочу себя загонять в узкий коридор. Как идет, так идет. У меня действительно очень разные интересы. Ничего с этим не поделать, видимо. (Смеется.)

С одной стороны, все темы, все людские страхи извечны, они встречаются в текстах разных веков и стран. С другой — время и история идут, появляются новые контексты, темы, новое восприятие. Условно, от личных границ до страха не успеть и упустить, того самого FOMO. Нужно ли их впускать в процессы?
Эти новые темы входят в наш разговор с артистами, когда мы ищем в материале какие-то точки соприкосновения с нами самими, а потом пытаемся перевести на образный язык, который есть у автора, вытащить болевые точки. Конечно, мы сталкиваемся и с тем, чем оперирует современная психология и так далее, этого не избежать, но в театре все-таки важно, каким языком ты это рассказываешь: через метафору, через образ. Поэтому важно разобрать и найти эти болевые точки, точки соприкосновения, поскольку они должны работать с залом.
Эти точки ведь можно обнаружить в любом материале, даже если сюжет специфичен?
Работая с любым произведением, я пытаюсь выискивать эти точки и токи, которые попадают в зрителя, а потом уже думаю, каким языком рассказать так, чтобы сработало и не было ощущения «ну это мы и так знаем». На примере спектакля «Новаторы»: если просто рассказывать про компьютерных гениев, наверное, это может быть скучно, не всем такое интересно. Но если показать, какие за этими изобретениями стоят человеческие истории, шекспировские страсти, это сработает совсем иначе, реакция зрителей иная, мы проверили на практике.
Надо просто быть собой, а мне интересно многое. Думаю, театр для меня — инструмент познания.
А как вы относитесь к опыту и времени, вместе с которым он приходит? В искусстве ведь очень часто опыт кажется чем-то не только дружественным, но и враждебным тоже, если выступает противоречием к чувствованию.
Я думаю, режиссер — это вообще профессия опыта. Театр — эфемерная, неуловимая вещь, и никто не может сказать, получится спектакль или нет, даже если все идеальные составляющие соберутся вместе. Но за счет того, что ты делаешь-делаешь-делаешь, начинаешь понимать, как работают какие-то вещи: как работать с артистами, как — с пространством, со зрительским восприятием, почему тут не получилось, а там — наоборот. Ты же все равно продолжаешь учиться у самого себя. Для меня это так. И каждый новый спектакль — некая проба, в которой видишь: «Ага, это получилось, что задумал, вот это нет». Со временем каждое свое решение уже можешь объяснить. И это тоже наслаивается на те спектакли, которые ты сделал, так что опыт в режиссуре — только полезная штука. Я понимаю в то же время, что можно стать заложником идеи, что «я могу все, я все знаю», но режиссура, мне кажется, такая профессия, в которой можно развиваться бесконечно, и большие режиссеры до 80 лет сохраняют форму, меняют свой язык и ищут что-то новое каждый раз.
Искусство — это абсолютно бездонный поиск. Нет рецептов, нет уверенности, что у тебя может завтра получиться. И когда начинаешь новую работу, то это работа с чистого белого листа. Начинаешь снова копаться и искать. Самый сложный этап для меня — это, наверное, все-таки первый импульс, рождение замысла, понимание, как это может быть, как история будет звучать. А дальше уже начинается работа.

К слову, про белый лист. У людей пишущих с этим словосочетанием часто связано довольно много опасений, да и сама формулировка «страх белого листа» довольно расхожа. Каковы подобные страхи в контексте режиссуры? И как с ними бороться?
Бывает страх первой репетиции, начала проекта. Да и вообще, часто пугает мысль, на какую махину ты покусился, решив сделать спектакль по определенному тексту. Мне с этим помогает бороться то, что два последних сезона я очень много ставлю и работаю, поэтому у меня нет времени рефлексировать. Голова освобождается от лишней информации, ты сосредоточен на том, что надо сделать. А решения так или иначе приходят всегда.
Порой негативный наш опыт, некий условный неуспех оказывает на нас больше влияния, чем удачный и успешно осуществленный проект, иными словами, успех. Кажется ли вам это созвучным? И если говорить о переживаниях, неизменно ли они остры и могут ли помешать работе?
Опыт немножко это блокирует, ты понимаешь, что в любом случае надо работать дальше. Действительно, многие режиссеры говорят, что неуспех или провал больше тебя двигают вперед, а успех дезориентирует. Если ты успешно что-то сделал, уже невольно хочешь эту формулу успеха повторить, а она может в следующий раз и не сработать. А провал тебя мобилизует, ты собираешься, анализируешь, что сделал не так, в чем были проблемы, почему не сложилось, как ты хотел, где была проблема — то ли в замысле, то ли в организационной составляющей, разное бывает — и потом стараешься это учесть. Но когда ты из одной работы сразу переходишь в другую, у тебя просто нет времени лежать горевать, все равно новая работа начинает занимать, и уже не так болезненно реагируешь на то, что что-то не получилось, идешь дальше.
А когда случается пустое время, как в Театре Маяковского у меня бывало, когда сделал раз в год спектакль, а следующий, условно, еще через год, там, конечно, сложнее, поле для рефлексии больше. Ты сделал один спектакль — вот твой отчет за год. И если он неудачен или полуудачен, конечно, не в лучшем настроении пребываешь.



Какую роль во всем этом играет зритель?
Когда задумываешь спектакль, ты же его не в пустоту задумываешь, а немножко просчитываешь реакцию зрителей. И если реакция не такая, как ты хотел, то начинаешь считать это упущением. Но такие работы действительно двигают тебя, потому что ты попробовал что-то непривычное, нетипичное для самого себя, и, может, не сложилось, да, это нормально, но все равно тяжело воспринимаешь, что кому-то что-то не нравится.
Приучаю себя ничего не ждать, а просто делать работу качественно и хорошо, чтобы она максимально мне самому нравилась, а там будь что будет. Бывает, что совершенно неожиданно зрителю что-то нравится, это такая вещь… Она еще должна на человека попасть, совпасть с его ощущениями. Хотя чуть-чуть я уже начинаю понимать, что, например, нравится. Делаешь несколько спектаклей и понимаешь, почему это понравилось всем, а это отторгнуто в какой-то части. Начинаешь догадываться, из каких элементов состоит восприятие, почему это может быть близко или далеко. В этом и есть суть театра — в обмене энергиями. Ты создаешь определенную энергию, которая должна иметь отклик. Это нельзя сделать герметичным искусством, утверждать, что я делаю только для себя. Ну или нужно тогда, как Ежи Гротовский, делать свои собственные практики, но это совсем другая история.
В то же время все, о чем я говорю, не значит, что нужно прогибаться под зрителя. Ты же рассчитываешь, что к тебе придет зритель умный, понимающий, включенный. И лучше всего, когда спектакль имеет несколько уровней, когда каждый считывает свой контекст. Такая многоуровневость мне интереснее всего.
Театр знает примеры очень закрытых режиссеров и, наоборот, режиссеров очень открытых. Тех, кто строит строгую вертикаль, где едва ли возможна демократия. И наоборот. Какое у вас к этому отношение, какими вы видите взаимоотношения режиссера с миром?
Я опять же думаю, что и здесь важно быть собой. Понятно, что определенная жесткость должна быть, но я всегда строю отношения в коллективе на каком-то творческом уважении, и артисты всегда идут навстречу. Они заинтересованы, чтобы у них были хорошие работы, был новый хороший спектакль. И если они видят, что режиссер им это дает, то начинают доверять, раскрываться.
Я люблю доверительную творческую обстановку. Не подпитываюсь чужими нервами, какими-то скандалами, истериками, наоборот, не хочу этого. И какие-то мои удачные спектакли всегда рождались в любви, в том, что нам всем нравилось то, что мы делаем. Нервозные ситуации тоже бывают, без них никуда, ну и все равно приходится делать замечания, иногда неприятные вещи говорить. Здесь важно не упустить какую-то грань.
Если ты сам неуверенный и изображаешь из себя диктатора — а я видел таких режиссеров, немножко закомплексованных, — если ты боишься, что твой авторитет пошатнется, то он так или иначе пошатывается все равно. И актеры на подсознании чувствуют эту твою слабость — так же, как чувствуют и открытость. Им важно, кто с ними работает, хочет ли этот человек полноценного диалога. Не «я так вижу, сделай вот так», а обсуждение, чтобы ты понимал, что делаешь и зачем. Это все надо уметь объяснить.

Сегодняшний день и его контексты неизбежно оказывают влияние на всех нас. Мы много говорим о том, как справляться с тревожностью, размышляем, как быть и как жить. Как вам кажется, как отзывается на это театр?
Как бы это больно ни было, продолжать жить нужно, а жить в унынии невозможно. К сожалению, мы попали в ситуацию, на которую мы не всегда можем повлиять. Да, жизнь устроена немного цинично, что ты при этом должен продолжать жить и развиваться. Мы должны как-то переносить эти обстоятельства, жить, делать свое дело. Сегодня усилилась актуальность многого, о чем мы говорим на театральном языке. В каждом спектакле можно найти что-то, что откликается сейчас. Не обо всем театр может поговорить напрямую, но каждый зритель сам уже ищет и находит что-то для себя. Иногда и сами авторы не закладывают того, что считывается.
Та самая многоуровневость?
Да-да-да. Все в глазах смотрящего. Мы сейчас все обогащены контекстом, мы все воспринимаем через эту призму, все произведения искусства, и не удается сбросить эту пелену, от этого отвлечься. Все равно мы ищем невольно то, что попадает на контекст, интерпретируем произведения. Ну а театр... Театр не может умереть, он должен продолжать существовать и постараться сохранять лицо по возможности в любом случае. Пока эта возможность есть, надо что-то делать.
Грядущий сезон для вас станет в каком-то смысле новой большой главой, поскольку начинается ваша работа и жизнь в Александринском театре. Конечно, прозвучит довольно банально, но есть ли у вас какие-то ощущения относительно предстоящего пути?
Когда меня позвали в Александринский театр поставить спектакль «Тварь», я посмотрел идущие там постановки и подумал: «Вау! Вот круто! А я так не смогу». Но раз меня позвали, надо делать то, что я могу, что у меня получается, что я умею. И вдруг это оказалось важным для актеров, для труппы, стало чем-то новым для театра — этот спектакль. Поэтому предугадывать сложно, я только могу все повторять и повторять, что лучше просто быть самим собой.