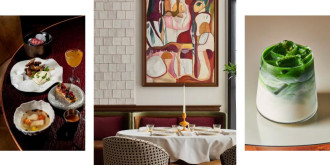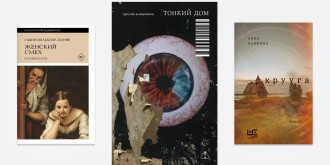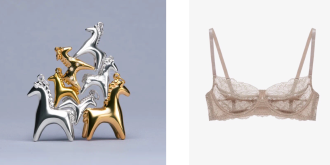«Дискурс правоты надоел»: лингвист — о вайбе, «имбе» и феминитивах
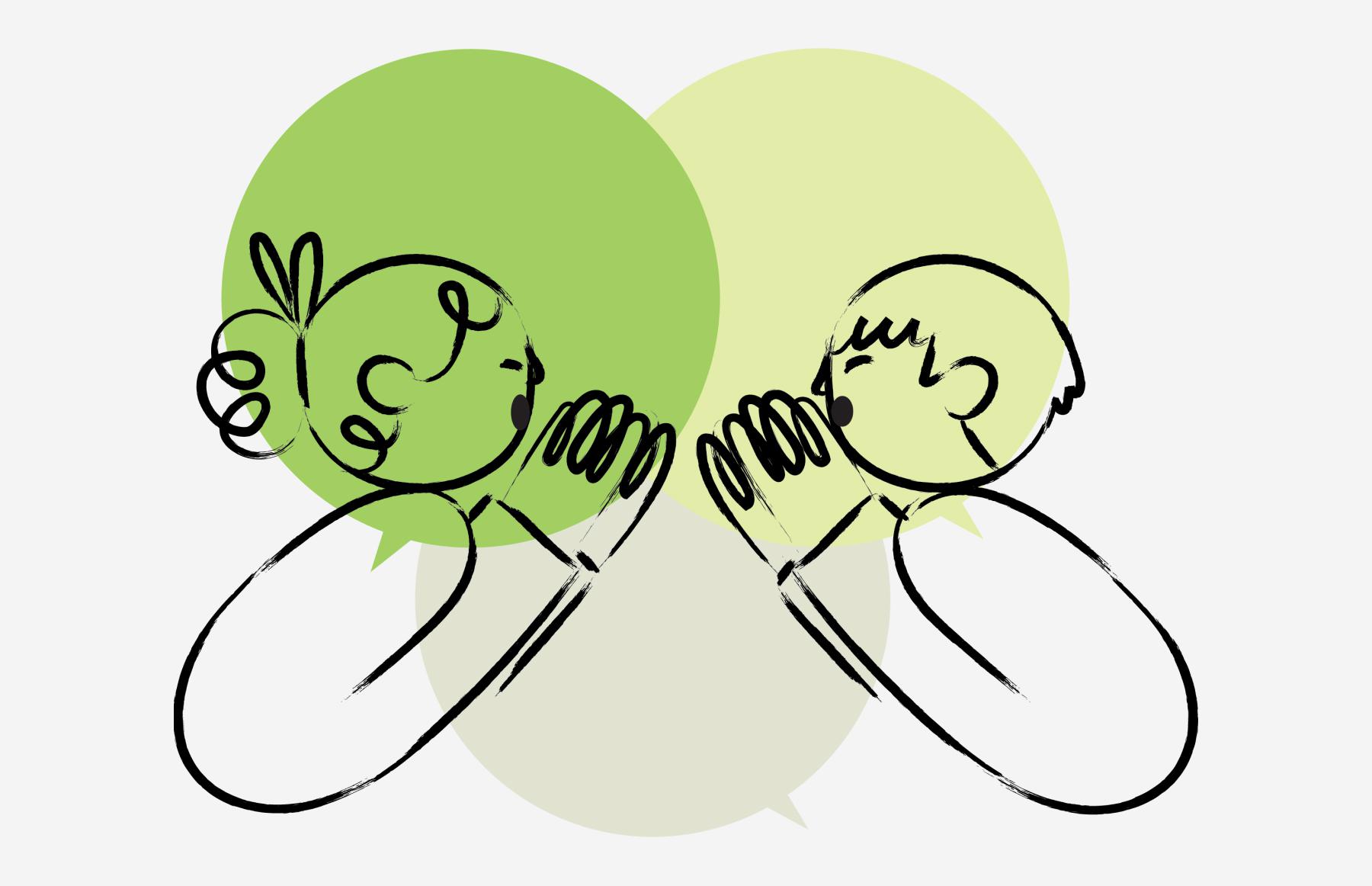
Нужно ли защищать русский язык и как это делать? Почему слово «хайп» прижилось, а понятие «имба», скорее всего, скоро забудут? Эти и другие вопросы литературный критик Арина Киселева задала Ирине Левонтиной, ученому-лингвисту, ведущему научному сотруднику Института русского языка им. В.В. Виноградова РАН.
Начать хотелось бы с голосования «Грамоты.ру», определившего «вайб» словом 2024 года. Как вы думаете, почему именно это слово и именно сейчас, ведь оно пришло к нам несколько лет назад?
Во время ковида словами года по всему миру выбирались слова, связанные с ним: «коронавирус», «вакцинация», «удаленка». В прошлом году все слова в основном были связаны с ИИ и нейросетями — тоже совершенно предсказуемо. А теперь вдруг происходит дробление: у разных стран разные слова, причем они связаны с жизнью отдельного человека.
Например, у английского словаря Collins — это «brat». Вообще-то старое слово, означающее «непослушный ребенок» или «сорванец». Помните, были куклы «Братц» в свое время? И вот летом вышел альбом певицы Charli XCX — Brat. Героиня этого альбома — такая дрянная девчонка. Приходит под утро с вечеринки, ложится на кровать в ботинках, не снимая макияжа, спит допоздна. И это завоевало страшную популярность. Другим словом года по Collins стало «эра», популяризированное Тейлор Свифт. В смысле «сейчас я увлекаюсь этим» — «i'm in my ___ era». Слово «эра» ранее означало большой период в жизни человечества, а теперь эры появились у отдельного человека. Кстати, такой сдвиг значения отмечается и в русском языке.
Тут надо сказать, что мы находимся в русле мировой цивилизации. Дискурс правоты, который все заполонил — мол, только так надо действовать: только ЗОЖ, только так говори, только это делай — надоел. Видите ли, в культуре, искусстве, моде, языке есть механизм: если что-то чересчур давит, происходит отторжение. И сейчас эти слова года — знак, что отторжение началось, что человеку уже хочется просто действовать в свое удовольствие, что важна ценность не правоты, а индивидуальной радости. Может быть, это не очень заметно по, скажем так, идеологии, но язык уже предчувствует изменение.
В русском словом года, по одной из версий, стал «вайб». Оно про то же. Мы вдруг вспомнили, что для человека существенно его личное настроение, его неуловимые переживания — не его правота, не столько, скажем, его принадлежность к правильному социальному или политическому лагерю, а просто настрой. Кому-то вайб теплого лета, а кому-то вайб тухлого носка.
Еще интересно, что «вайб» – заимствованное слово, но оно отличается от vibe. В английском смысл слова понятен всем носителям, так как это сокращение от «вибрация». А вот для русскоговорящих слово «вайб» непрозрачно, загадочно и обладает размытым и трудноопределимым смыслом. И на первый план выходит ценность этого трудноопределимого.
Есть еще один тренд — забавные слова типа «масик».
Да, все так. Масик, чечик, тюбик. Что мы здесь видим? Язык не хочет следовать навязанным классификациям. Придумывает свои. Детские, смешные, глупые, трудноопределимые. Вспомним невероятный интерес к «Слову пацана»: сразу были опубликованы словари по нему, однако все это ушло в тень. И в словах 2024 года я не заметила ничего из «Слова пацана». Потому что это грубая классификация — деление на «чушпанов» и «пацанов». Языку хочется более тонких, трудноуловимых классификаций, не партийных, а каких-то надпартийных, запартийных и так далее. Это все выстраивается в одну картину. И, по-моему, очень характерную. Язык выскальзывает в зону какой-то большей свободы.
Интересно, что несмотря на стремление к свободе в языке, многим людям все равно неловко произносить новые слова. И они часто делают оговорку. Например, «как говорит молодежь, это кринж». Почему так?
Да, я и сама делаю такую оговорку. Даже не неловко, это просто смешно, когда люди неподходящего возраста употребляют молодежный сленг. Однако это указывает на важную черту современного языка — повышение внимания к молодежи, к ее точке зрения, что во многом связано с техническим прогрессом. Сейчас на первый план выходит не ценность опыта, а ценность мобильности и обучаемости. Молодежь оказывается поколением, в чем-то более адекватным нынешнему времени. Поэтому старшие пристально смотрят на молодежь и, в частности, интересуется ее языком.
Еще добавлю, что сами поколения стали быстрее сменяться. Именно потому что оборачиваемость и скорость информации страшно увеличилась. Поколения до 2010 года рождения уже считают, что поколение 2010 года рождения коверкает язык, ничего не понимает и так далее. Я недавно читала лекцию в школе и рассказывала, что быстро меняются слова: теперь говорят не «огонь», а «топчик». Дети возмущенно сказали, что никто не говорит «топчик», что за древность, все говорят «и́мба». Я это рассказала своему младшему внуку, которому восемь лет. Он сказал, почему ты говоришь «и́мба»? Надо говорить «имба́».
То есть если раньше мы добавляли «как говорит молодежь», когда была разница 30 лет, то теперь уже и десяти лет разницы достаточно. Тебе 25, кому-то 15, и между вами пропасть.
Да, со страшной скоростью все меняется. Какое-нибудь слово «ламповый» еще десять лет назад говорила только молодежь, а сейчас разве что старички.
Вы в одном интервью разбирали слово «флексить»: сейчас молодежь на него скривится и скажет, что оно протухло. А вот например слово «токсичный» вошло в обиход. Возможно ли предсказать, какое слово пропадет, а какое cтанет нейтральным и закрепится?
До некоторой степени можно. Например, «хайп». Это слово было нужно языку. Оно отражало изменившуюся культурную ситуацию, когда информация стала обновляться с такой скоростью, что те или иные явления как обретали мгновенную популярность, так и мгновенно ее теряли. Это не покрывалось словами типа «ажиотаж», которое такой скорости не предполагало. Хайп — это именно страшная скорость информационного потока, к которой надо приспособиться и которую человек даже не может осознать. Когда меняется жизнь, появляются лакуны в языке — именно туда и должны хлынуть новые слова.
А вот слово «имба», скорее всего, исчезнет. У него узкий круг употребления, оно непонятное, игровое. Слово «огонь», наоборот, прозрачно, смысл его понятен, и поэтому оно, может быть, выйдет из моды, но в значении «круто», я думаю, сохранится. В общем, кое-что предсказать можно.
Мы сейчас назвали много англицизмов. Почему сохраняется такая статусность иностранного языка, особенно для молодежи? Ведь он, став доступным, больше не демонстрирует происхождение или принадлежность к интеллигенции. Зачем тогда люди до сих пор пишут свое имя на английском в соцсетях, где общаются только на русском? Возможно, вы видели тренд в интернете: под видеорядом с серыми улицами, уродливыми новостройками, маршрутками фраза — «Это Москва», а потом показываются красивые набережные, небоскребы, модные рестораны с надписью «а это Moscow»…
Знаете, в свое время было слово «импортный» в значении прекрасный, хороший. Такое представление о том, что все качественное и красивое есть только за границей. Это от Советского Союза шло. Сейчас ситуация немного другая, но людям хочется осознавать себя частью большого мира. И поэтому когда человек пишет свое имя или что-то еще латиницей, он себя позиционирует не как житель своего города в своей стране, а как человека, который живет в мире и рассчитывает, что его услышат люди по всему миру, и он услышит людей по всему миру. Я думаю, эта тяга к английскому будет расти по мере увеличения давления сверху.
Чем больше призывают отменить латиницу вообще, чем больше называют английский недружественным языком, тем больше молодежь будет хотеть употреблять англицизмы и использовать латиницу. Причем это даже будет не сознательной позицией, а неосознанным стремлением. Потому что язык — это территория свободы. Язык всегда сопротивляется давлению.
Мы вдруг вспомнили, что для человека существенно его личное настроение, его неуловимые переживания — не его правота, не столько, скажем, его принадлежность к правильному социальному или политическому лагерю, а просто настрой.
Уже какой год выходят законопроекты о защите русского языка в сферах от образования до рекламы. Недавнее очередное предложение — об обязательных переводах на русский всей рекламы и о том, что на вывесках не может быть никакого «coffee», только «кофе». Как вы думаете меры по защите языка, даже не обязательно русского, любого языка, эффективны? Это вообще нужно или язык сам справится?
Язык — стихия самостоятельная. И в нем есть процессы, на которые трудно повлиять. Но это не значит, что не надо ничего делать для языка. Надо на нем красиво писать. Читать, побольше говорить. Для языка вредно, когда его не используют или используют не во всех сферах — скажем, только в быту. Тогда язык становится инвалидным. Такая опасность есть для языков, например, скандинавских, когда в научной речи люди сразу пишут по-английски, преподают по-английски и так далее. В русском языке пока такой опасности нет: мы плоховато знаем иностранные языки.
Что же касается того, чтобы вычеркнуть те или иные слова, конечно, можно декретным образом запретить их употреблять в прессе, рекламе, но невозможно сделать так, чтобы люди не употребляли их между собой. Кроме того, осуществить серьезные перемены, как было в русском языке, когда обращения «господин»/«сударь», «госпожа»/«сударыня» были заменены на «товарищ», возможно только когда в обществе происходят революционные изменения. А в обычной жизни без революции произвести что-то такого рода просто нереально. Я думаю, скажи Ельцин в свое время: «Сейчас самое главное — вернуть обращение «сударь» и «сударыня», это было бы возможно. Но это, наверное, не последнее потрясение, которое будет в нашей жизни.
Многие люди, недовольные новыми словами, в интернет-дискуссиях утверждают, что их употребление говорит о низком уровне культуры. Почему в спорах о русском языке интеллигентностью считается именно твердое следование старым нормам и презрение к любым изменениям, а не открытость новому?
А это совершенно нормальная жизнь языка. Есть люди, которые по своему темпераменту архаисты, а есть новаторы. И для правильного существования, естественного развития языка очень хорошо, чтобы были и те, и другие. Более того, это даже полезно — чтобы они враждовали.
Во-первых, если слишком много приходит заимствованных слов, язык просто не успевает их освоить, переварить, а это важно. А во-вторых, хорошо, чтобы слова не просто так появлялись, а с определенным смыслом.
Представим ситуацию. Появляется новый термин. Приходят пуристы, архаисты и говорят: «Зачем? У нас есть свое слово». В ответ новаторы: «Нет, вы не правы, у понятия новый смысл». Начинается дискуссия. И слово либо входит в язык, но уже осмысленным, с каким-то четко определенным значением. Либо фильтр этих архаистов его останавливает, если невозможно сформулировать, какой новый важный оттенок оно в себе несет. Такие процессы совершенно здоровые и полезные, поэтому не надо обижаться на людей, которые ругаются на слова. Очень хорошо, пусть ругаются.
Получается, в этом споре рождается истина?
Не то чтобы истина, но да, обновление языка не происходит бесконтрольно и бессмысленно. Оседают те слова, которые действительно нужны языку. Тут важно, чтобы люди, грамотные носители, обсуждали слова, признавали, не признавали, решали, попасть ли им в словари. А декретами тут действительно мало что можно решить, потому что язык живет своей жизнью.
И финальный вопрос. Знаете ли вы, что, когда вбиваешь в Google ваше имя, поисковик выдает «российская лингвист». Как вам такая форма?
Понимаете, с феминитивами и вообще с обозначением рода совершенно естественный процесс происходит в языке. Когда ребенок приходит из школы и говорит: «Наш новый учитель сказал», а учитель — девушка, это немного неловко. Неудивительно, что возникает желание что-то с этим сделать. В свое время пробовали решить это синтаксическим путем: «учитель пришла», «новая редактор». Это вызвало страшный протест. Потом появилось какое-то количество новых феминитивов, которых до этого не существовало. Или они существовали, но люди об этом не знали — скажем, «поэтка», которая у нас еще с XIX века. И снова протест, и вся страсть по этому поводу… Это немножко смешно.
Мне, в общем-то, совершенно все равно, называют меня лингвист или лингвистка. Даже лингвистка мне вполне нравится. Российская лингвист звучит чуть непривычно, но, в общем, люди в своем праве. Что меня огорчает здесь? Я помню, что как-то выступала в суде по очень серьезному делу, там людям грозил срок. И написали «экспертка Левонтина сказала то-то». И дальше была только дискуссия именно про экспертку. Писали: «и неужели сама Левонтина не оскорблена тем, что ее называют эксперткой?», а Левонтина была расстроена тем, что суть дела осталась за кадром, неинтересна. Люди обсуждали «экспертку» вместо того, чтобы обсуждать действительно серьезную историю и то, что я говорила собственно на этом судебном заседании. Поэтому «эксперт» или «экспертка» меня не беспокоят. Я думаю, что некоторые слова приживутся, а некоторые – нет. Например, «редакторка» и «режиссерка» уже просто есть в нашем языке. И тут возмущайся, не возмущайся.