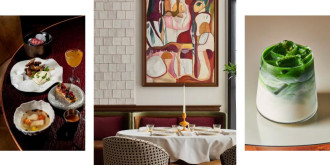От Библии до Хичкока: историк — о том, что скрывают культурные коды

Попробуйте, глядя на замечательную картину вашего любимого художника, задаться вопросом: эта красота существует сама по себе или это лишь блики моего восприятия? Как мы видим красивое и что мы считаем красивым, во многом определяют культурные коды, заложенные в нас воспитанием, средой, образованием, обществом и институтами. Красота, которая существует вне культурного влияния, скорее проступает из некого абсолютного блага, и разговор о ней относится уже к области метафизического. Сейчас же поговорим о культуре, вполне земной и осязаемой.
Невидимая субстанция, пронизывающая все области нашего бытия, соединяет человека с самим собой, с его предками и традициями, формирует видение красоты, понимание истинности, выстраивание отношений и даже осмысление собственной идентичности. Накапливаясь внутри нас, это вещество действует как фильтр, через который мы воспринимаем реальность и реализуемся в этом мире.
Представим в той же картинной галерее, где только что восхищались шедевром или просто занимательной картиной на злободневную тему, необычного посетителя — человека, прибывшего из амазонских или новогвинейских джунглей, пустыни Намиб, с архипелага Тристан-да-Кунья или отрогов Северных Анд. Обычно эти места называют последними на планете, не тронутыми цивилизацией. Понятно, что при этом имеется в виду великая и могучая западная христианская цивилизация. Как думаете, оценит далекий гость выбранное вами полотно? В первую очередь это будет зависеть от возможности сочетания его культурного кода с культурным кодом художника, экспонирующей институции, в конце концов, нашего общества.
В Средние века «Сад земных наслаждений» Иеронима Босха воспринимался как моральный урок, предупреждение о грехах человечества и последствиях распущенности, сейчас его можно интерпретировать как исследование человеческой природы и желания. В эпоху Ренессанса «Тайная вечеря» Леонардо да Винчи безусловно связывалась с божественным откровением и служила объектом поклонения, сегодня этот художественный и культурный символ используется в поп-культуре и рекламе, а сюжет росписи пародируется. «Сотворение Адама» Микеланджело проделало путь от величественного выражения божественного творения и связи между Богом и человеком к символу свободы и стремления к самовыражению. «Мона Лиза» из идеала женской красоты и загадочности обернулась в воплощенную аллегорию коммерциализации искусства. В XVII веке «Ночной дозор» Рембрандта пробуждал патриотические чувства, гордость за милицию Амстердама, отдавал дань уважения общественному порядку и гражданским добродетелям, современное же восприятие акцентируется на живописной составляющей картины, новаторском подходе к портретированию, светотени и композиции. «Девушка с жемчужной сережкой» Яна Вермеера прежде всего демонстрировала красоту и изящество и служила валидацией статуса, спустя столетия — это икона поп-культуры, которая символизирует загадочность и интригу и интерпретируется с точки зрения гендерной истории.
Как культура во всем ее многообразии определяет лицо времени, так и культурный код обрамляет наше видение, ценностные установки, стремления и восприятие действительности.
Ровным счетом
Помните этот сюжет? Женщина крадет $40 тыс. у своего работодателя и сбегает, собираясь на эти деньги начать новую жизнь с любовником. В дороге она останавливается в уединенном мотеле, которым управляет странный и замкнутый человек, а дальше все идет не по плану… Фильм «Психо» Альфреда Хичкока завоевал популярность и у зрителей, и у критиков сразу после выхода в прокат в 1960 году и давно стал классикой кино, будучи в 1992-м включенным в Национальный реестр фильмов Библиотеки конгресса США.
Двумя годами позже, в 1962-м, в Советском Союзе сняли не менее значимую, хоть и не получившую должного признания ленту «Увольнение на берег». Девушка Женя работает почтальоном и теряет выданные ей на работе деньги, сумма немаленькая — 300 руб. Женя опасается неприятностей и надеется за день собрать нужные средства, чтобы компенсировать потерю казенных денег за свой счет. Ей вызывается помочь Николай, уволенный на берег матрос, который случайно знакомится с плачущей девушкой. Молодых людей ждут невероятные приключения, пока до вечера они пытаются собрать требующуюся сумму. В итоге чудом, можно сказать, всем миром — подключились и сослуживцы Николая, и даже его мать, живущая в другом городе, — так необходимые честной девушке 300 руб. оказываются собранными.
Перед нами два плохо сочетающихся культурных кода, дистиллированные на примере рядовых людей одного поколения, но будто бы живущих в разных мирах. Сложно поверить, что когда-нибудь они могут пересечься или найти общий знаменатель. Чтобы проследить формирование этих кодов, требуется отследить путь возникновения специфической советской и американской культуры.
Вывихнул сустав
Почему Гамлет, законный наследник, не устраивает дворцовый переворот в ответ на убийство своего отца и узурпацию власти убийцей? Шекспир оставил нам подсказку о том, к какой культуре принадлежит юный принц. Учился он не где-нибудь, а в Виттенбергском университете, знаменитом своим гуманистическим образованием и теологическими исследованиями. Там, где Мартин Лютер стал профессором теологии, где он прибил свои 95 тезисов к дверям замковой церкви, где он заложил основы протестантизма.
Более известный и древний Болонский университет сделал бы Гамлета политиком, искушенным в тонкостях придворной жизни и юридической казуистики, Парижский университет открыл бы принцу всю красоту схоластики или связал с такими идеями кальвинизма, как доктрина предопределения и абсолютного владычества Бога над миром. Шекспир подчеркивает, что Гамлет получил изящное образование, и все его мысли и действия не могут не быть благородными и тонкими. Кажущийся на фоне происходящего безумцем Гамлет с заложенными в него нравственными и культурными установками не может не воскликнуть, что век вывихнул сустав, тем самым он противопоставляет своей картине мира сумасшествие века, в котором предпочитают жить насельники его замка.
Со временем пьеса «Гамлет» и сама породила множество культурных кодов, став мощным прецедентным текстом мирового уровня, эссенция которого используется как культурный маркер до сих пор. Подобные значимые литературные явления берутся человечеством за основу будущих культурных ритуалов, устойчивых ассоциативных связей, опора на которые позволяет совершенно не знакомым друг с другом и находящимся в разных контекстах акторам испытывать схожие эмоции при касании конкретного культурного кода.
В овечьей шкуре
В Англии тексты часто использовались как ключевой инструмент политической интервенции. Скажем, такая культовая книга, как опубликованная в 1611 году Библия короля Якова, на памяти нескольких поколений была единственным повсеместно читаемым и постоянно комментируемым (на еженедельных церковных службах) текстом. Фактически по замыслу короля Англии Якова I Библия становится новой конституцией, а библейский текст в соответствии с этим — языком власти. И это притом, что переводчики берут в качестве основы уже изрядно архаизированный текст, переведенный на английский язык за сотню лет до них. До романтизма еще очень далеко, но прием сознательной архаизации, которая придает большую значимость и величественность, применяется и в начале XVII века. И каков эффект! Даже спустя сто лет после издания Библии Якова многие английские авторы обращаются к ее языку, чтобы придать весомости собственным текстам. Вместе с тем в английскую разговорную и литературную речь, а значит, и в культуру вошли ставшие крылатыми выражения и обороты, характерные для старинного языка Библии Якова: из хорошо знакомых русскому уху можно назвать, пожалуй, а wolf in sheep's clothing («волк в овечьей шкуре») или a thorn in the flesh («заноза в сердце»).
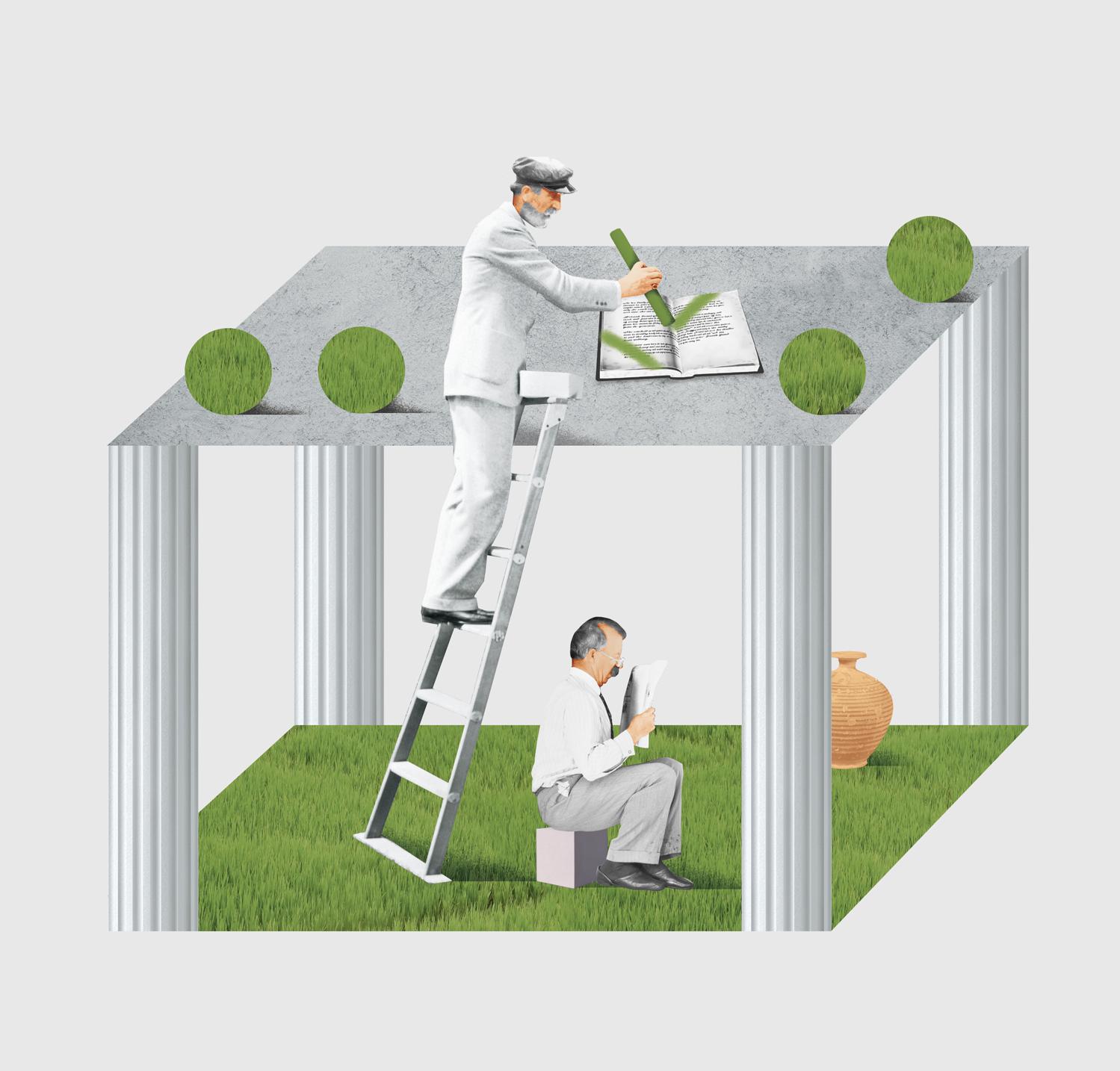
От Оруэлла до наших дней
Как один из главных теоретиков культуры, Ролан Барт пишет, что культурный код делегируется доминирующими группами как единственно легитимный и это позволяет таким группам осуществлять символическое насилие над группами, находящимися в подчиненном положении. Он говорит о постоянном навязывании обществу определенных культурных парадигм и ценностей как естественных и не подлежащих сомнению. Кто их навязывает — чрезвычайно интересный вопрос. Философ Александр Пятигорский описал этот механизм значительно проще: любой процесс интеллектуальной культуры может инициироваться только сверху. По Пятигорскому, сверху — не обязательно значит властными иерархиями, сверху — значит более высоким уровнем сознания.
Но власть, и вправду, постоянно пытается влиять на вес потребительской корзины с культурными кодами. Один из инструментов хорошо описал Джордж Оруэлл. Рассматривая опыт тоталитарных государств, он придумал Newspeak, или «новояз», как квинтэссенцию максимальной власти над обществом — возможность дать людям средства только для правильных, подходящих, соответствующих государственным ожиданиям речей и отвращения человека от совершения «словопреступлений» (кстати, тоже понятие из новояза).
Есть у этой медали и другая сторона. Иногда языковое оформительское влияние на культурные коды происходит произвольно. Помните, как в определенный момент на публичных трибунах властных институтов впервые появляется бандитский язык, ярко выраженная сниженная лексика? Именно это дает зеленый свет популяризации уголовной культуры и, естественно, приводит к снижению разговорной нормы, в первую очередь в медиа. Общество с наивностью только вылупившегося утенка ловит эти изменения и подстраивается. И вот уже выражение «ниже плинтуса» не кажется дурно пахнущим даже самым изысканным носикам. Бумеранг, по стечению обстоятельств запущенный конкретной социальной группировкой, получившей в известный исторический момент особый вес, облетает саванну нашей культуры и вот уже представляет мирно пасущимся стадам антилоп угрозу массового поражения.
Не только государства обучились использовать этот инструмент — все чаще мы наблюдаем, как общественные течения перехватывают инициативу моделирования речи, а вместе с тем и перепрошивки культурного кода. В 1980-е годы появляется такое явление, как правка языка в угоду определенным «возвышенным» целям. Когда-то процесс отталкивался от табуирования для конкретных категорий общества определенных жаргонных выражений, в частности так называемого н-слова, а пришли мы к появлению никогда не существовавших определений, которые как бы влекут и рождение обозначаемых ими явлений, чувств и даже биологических категорий. Язык не просто отражает картину мира, но и формирует культурные коды, которые начинают складывать по своему канону действительность.
Не так давно эта волна накрыла и пространство русскоязычной культуры, заставив людей спорить о грамматических формах, словообразовательных суффиксах, семантике и возможности словоупотребления — к примеру, феминитивов как жеста. Надо сказать, общественные движения и их инструменты оказались в этом противостоянии куда эффективнее государственной инициативы, не успевающей за все новыми влияниями из других речевых культур.
Это же аморально!
Порой только культурный код позволяет понять верные оттенки происходящего в ту или иную эпоху. Цензор предпочел изъять из текста Толстого фрагмент, в котором Анна Каренина рассказывает Долли Облонской, каким способом она пришла к тому, что детей у нее больше не будет, после чего Долли восклицает: «Но это же аморально!» По всей видимости, Анна делится с Долли подробностями применения уже несколько десятилетий известного в Европе изобретения, предназначенного для предотвращения беременности. Может ли это показаться аморальным читателю нашего времени?
Бетси Тверская делится с Анной подробностями иного рода — как можно состоять в браке, но слегка пренебречь некоторыми условностями и позволить себе немного вольности в отношениях с другим мужчиной, иллюстрируя это на примере Лизы Меркаловой и Сафо Штольц, которые «забросили чепцы за мельницу», естественно, все же соблюдая при этом некие требования общества, «меру», главным образом, очевидно, скрытность. Анна же, не желая быть одной из вершин любовного треугольника, позволяет себе вполне открытый вызов патриархальному устою и уходит от мужа к любимому человеку, что не соответствует культурному коду ее круга. Беседы о предупреждении беременности, разрыв связи с законным супругом, как итог — развод. Что дальше?
Сначала Флобер, потом Островский и Толстой — взаимное притяжение русской и французской литературы обнаруживается в сюжете о женщине, которая изменила своему мужу. Некогда насмешливый и дидактический взгляд на супружескую измену, главенствующий в литературе, кардинально меняется. Фактически невозможность развода или невозможность принятия обществом женщины, прошедшей через развод, — вот что оказывается корнем горя.
Современному человеку сложно было бы понять драматизм положения героев, оказавшихся перед выбором любви или свободы, без знания процедуры развода того времени, сложной, унизительной, проходящей в религиозном суде и не дающей виновной в разводе стороне права на вступление в повторный брак. Возможной причиной развода могло считаться безвестное отсутствие супруга дольше пяти лет, физические недостатки, мешающие брачной жизни, и прелюбодеяние, подтвержденное не менее чем тремя свидетелями. «Знала бы ты, через какие унижения мне пришлось пройти во время развода!» — говорит одна из героинь фильма Педро Альмодовара «Параллельные матери», действие которого развивается в наши дни. Ей и не снилось, что ждало проходящих через развод женщин XIX века, особенно в реалиях законодательства Российской империи.
Оливер Твист попросил еще каши
Иногда получается, что культурный код, выкристаллизованный в литературе, становится стеклом, проецирующим новые ценности в реальность. Занятно, что английских литераторов в это же время больше, чем дела сердечные, заботит положение рабочих, устройство судебной системы и достижение социальной справедливости, которая становится одной из центральных тем в творчестве Диккенса. Это — и несчастная судьба маленького человека. Самый популярный автор своего времени, посвятивший десятилетия тому, чтобы упорядочить, подчинить законам разума и души непоследовательный, уродливый мир, как окажется впоследствии, Диккенс стал создателем культурного кода викторианского англичанина — ищущего справедливость, верящего в добрые финалы, несущего домой к празднику индюшку, помогающего ближнему и не теряющего надежду.
На каждом шагу у Диккенса мы встречаем странных персонажей, чудаков, живущих в ворохе старых документов и вытащенном на берег баркасе, записывающих небылицы и ожидающих внезапного улучшения дел, говорящих с птицами как с товарищами, не возражающих против котлетки в сельском трактире, прикрепляющих непослушным детям на спину таблички с отчетом об их поведении и только и мечтающих, чтоб их оставили в покое, — именно потому, что такими людьми была населена Англия Диккенса. Писатель точнее других разглядел культурный код этого островного государства, замкнутого, изолированного от остального мира и населенного разобщенными людьми, все беды которых — от епископов и королей, Иоанна, которого зовут жалким животным, и Генриха VIII, напоминающего пятно жира и крови на истории Англии.
Образами своих героев Диккенс создает в этом калейдоскопе центральный кристалл наивысшей чистоты, который способен облагородить общество своим добрым сердцем и щедрой рукой, поддерживающей тех, кому меньше повезло. Диккенс учит холодных англичан справедливости и одинаковому отношению ко всем — злые богачи обретают если не благоденствие, то умиротворение. В конце концов мы имеем дело с автором, который создал узнаваемый по всему свету дух Рождества. Именно благодаря трудам Диккенса Ницше заметил, что человек не стремится к счастью, к нему стремится только англичанин.
В водовороте обыденности легко остаться чуждыми вопросам происхождения своих установок и «изначальных настроек», принимая их по умолчанию, но рано или поздно пресыщенность радостями земного комфорта подведет к тому, чтобы попробовать разгадать внутри себя тайну, загаданную культурой.