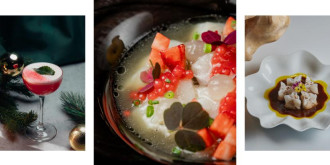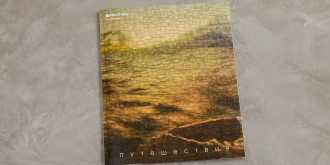Меценат Наталия Опалева — о нонконформистах, эмоциях и чувстве сопричастности

Для Наталии Опалевой и основанного ею музея AZ Мраморный дворец в Санкт-Петербурге — место хорошо изученное. В 2022-м году здесь уже проходила выставка «Лики/ Лица/ Морды», ставшая дебютом команды в Русском музее. Теперь же в залах расположилась масштабная экспозиция «Параллельные вселенные. От абстракции к артефакту. Коллекция Наталии Опалевой», которую как раз продлили до 20 июня. Как видно уже по названию, этот проект — история очень личная, как и все, что связывает Наталию Опалеву с искусством. Ее собрание началось в 2003-м году с покупки портрета авторства Анатолия Зверева, а продолжилось работами не только Зверева, но и других виднейших представителей советского неофициального искусства. Сегодня они во всех своих нетривиальных взаимосвязях стали частью тех самых параллельных вселенных, находящих, однако, множественные точки соприкосновения. Мы встретились с Наталией Опалевой в Петербурге, чтобы обсудить ленинградских нонконформистов, а также то, как меценат может помочь художнику, а опыт проектного финансирования — директору музея, а вместе с тем поразмышлять о событиях, происходящих в мире и мире искусства с институциональных и многих других точек зрения.
В каком-то смысле Русский музей стал для Музея AZ родным, ведь это уже вторая ваша выставка, которая проходит в Мраморном дворце. Если обращаться к прошлому, помните ли вы, когда впервые оказались в Русском музее? Часто наши самые яркие музейные впечатления связаны с детством и юностью. Как было у вас?
Мое личное отношение к Русскому музею сложилось не так уж давно. Конечно, и до того я видела выставки, листала каталоги, мне дарили друзья какие-то роскошные фолианты, но то, что очень сильно запомнилось и что сформировало отношение, произошло в 2006 году, когда я приехала сюда с семьей на выставку Павла Филонова. Это был совершенно грандиозный проект, я никогда не видела картины Филонова вживую, и впечатление, которое они на меня произвели, оказалось сильнейшим. А в прошлом году, когда мы решили привезти проект «Лики/ Лица/ Морды» в Мраморный дворец, я с первого же взгляда поняла, что он тоже моя любовь. Необыкновенно красивое здание, оно как-то сразу нас приняло. Ведь иногда приходишь в какое-то место, пусть даже очень красивое, и ощущаешь, что ты там как чужой, а здесь с первого же дня все было наоборот. И поэтому, когда музей предложил подумать о втором проекте, мы даже не сомневались.
Можно ли говорить о волнении в контексте выставки? У разных видов искусства разная дистанция и степень сопричастности со своим зрителем или слушателем. Например, артист или музыкант на сцене сразу видят и слышат реакцию зала. У живописца или писателя дистанция будет иной. Какова она у мецената, коллекционера и директора музея?
Я, конечно, волнуюсь, но прежде всего потому, что это выставка в Русском музее. Это определенный этап в жизни и в коллекционировании, это принятие коллекции очень серьезной институцией с мировым именем. Мне хотелось сделать этот проект так, как его увидела я сама. Думаю, это правильно, ведь лучше меня никто моей коллекции не знает. Мне хотелось показать тех художников, которых я считаю важными, те работы, которые занимают для меня определяющее место, продумать между ними связи и диалоги, которые я чувствую. Мы сейчас живем в век кураторов, и когда я решила, что хочу сделать этот проект сама, то сразу подумала, что все будут в ужасе, а журналисты спросят: «У вас что, нет куратора?» — и это будет приговор. (Смеется.) Я всегда подчеркиваю, что для меня очень важна эмоциональная связь с картинами. Когда видишь что-то особенное — произведение или целую экспозицию — и перехватывает дух, это замечательно. Поэтому я волнуюсь, разделяют ли зрители, которые приходят на выставку, эту мою эмоцию. Я-то люблю этих художников, они мне близки, я постаралась, чтобы мы показали их максимально эффектно, правильно, вдумчиво. Но как на это реагирует публика? Вот такого рода волнение присутствует.

Вы не раз в беседах рассказывали о первой приобретенной работе Анатолия Зверева, которая так сильно повлияла на вашу судьбу. И, кроме прочего, упоминали, что «вам понадобилось время, чтобы понять расстановку сил», имея в виду художников, взаимосвязи между ними и арт-сцену в целом. Сколько понадобилось времени на то, чтобы понять эту расстановку?
Как у Карла Маркса первоначально накопление капитала, так и у меня первоначальным было накопление опыта. В момент покупки той первой работы Зверева, я не знала, ни кто он, ни кто такие художники-нонконформисты. Сначала коллекция собиралась достаточно стихийно, скажем так, но чем больше я собирала, тем больше читала, постигала это все, узнавала биографии художников, какие между ними были связи, и все стало немного структурироваться. Но еще надо сказать, что мне невероятно повезло с людьми. Я познакомилась с невероятными профессионалами, Полиной Лобачевской и Еленой Юреневой, и они дали мне очень правильные советы в самом начале. Первое: если мы говорим о коллекции, то все-таки нельзя покупать все подряд, должна быть некая путеводная линия. То есть лучше выбрать какой-то период, или одного художника, или жанр. Иными словами, должен быть принцип для построения коллекции. Второе связано с тем же: нужно идти по этой коллекции, не раскидываться направо и налево. Хотя, как у любого увлекающегося и эмоционального человека, у меня были такие ответвления. К старому искусству или к парижской школе, например, но я себя вовремя возвращала в основное русло.
В этом контексте хочется поговорить про азарт. Трансформировался ли, изменился ли тот самый азарт коллекционера с появлением музея? И нужно ли искать новые грани между рациональностью и импульсивностью? Короткий пример из истории. Две коллекции — Морозова и Щукина — складывались очень по-разному. Если первому был свойственен рациональный и взвешенный подход (он отражался даже в том, как внимательно Иван Абрамович записывал все свои покупки, как каталогизировал эти записи), то для второго была характерна импульсивность. Сергей Иванович мог заказать десятки произведений понравившегося ему художника, не раздумывая и не строя в этом смысле каких-то планов.
Мне ближе тип эмоционального коллекционера, но если взять для примера участие в каком-нибудь аукционе, начинается все с рационального. Я выбираю определенные работы, которые нужны мне, примерно прикидываю себе максимум цены, которую готова дать. Ну, а потом начинается аукцион. (Смеется.) И это действительно невероятный азарт, иногда можно потерять над собой контроль. Однако бывали такие случаи, когда я понимала, что произведение мне настолько нравится, что я точно пойду до конца. Такая история случилась с ранней работой Эрика Булатова «Сосна», которая сейчас как раз висит у нас в Мраморном. Она продавалась на аукционе. У каждого свои пристрастия. Вот я невероятно люблю раннего Булатова, хотя во всем мире он знаменит именно поздними работами, которые лично мне нравятся меньше. И тут эта «Сосна». Раньше мне ничего такого никогда не попадалось. Я сразу поняла, что все, она должна быть моя. Бой на том аукционе был страшный, но в конечном итоге работа все-таки оказалась в коллекции. Нечто похожее было пару лет назад и с очень ранней работой Целкова, которая тоже совсем мало на него похожа: это не «морда», а еще, может быть, поиск стиля.


Но такие случаи, наверное, даже не проявление эмоций, а стремительные решения, что без этих работ коллекция не обойдется никак. А иногда случаются эмоциональные покупки, когда вроде не собирался, но вдруг как-то по-новому увидел работу и не удержался.
Бой на том аукционе был страшный, но в конечном итоге работа все-таки оказалась в коллекции.
А изменился ли сам принцип коллекционирования?
Безусловно, это произошло. Одно дело — частное собрание, когда произведения висят у тебя дома, ты любуешься сам, видит семья, приходят гости. И другое дело — музей, совершенно иной уровень, разные люди дают разную оценку. Поэтому сейчас, приобретая работы, я уже вольно или невольно сразу думаю, как и где их можно было бы использовать. Но, знаете, это все равно не исключает каких-то эмоциональных вещей. Например, для меня сейчас безумно интересны ленинградские нонконформисты, потому что с московскими все более-менее понятно, а вот ленинградских в коллекции мало. А ведь это было очень интересное течение. И еще увлекают связи между московским и ленинградским нонконформизмом, между художниками. Это не то что два города — два полюса. Это сейчас совершенно захватившая меня история, и она тоже, безусловно, от эмоций, но дальше ведет к исследованию и включению более рациональных подходов.
А нравится ли вам покупать работы на ярмарках современного искусства?
На ярмарках я покупаю. На последней Cosmoscow я, например, заполучила наконец-то прекрасную «Мраморную книгу» Айдан Салаховой, которую давно собиралась купить. Там же я купила парочку хороших работ Александра Носова, ученика Владимира Стерлигова, то есть это опять же ленинградские художники, и две красивые работы Евгения Михнова-Войтенко, это тоже Ленинград. Я дружна со многими галереями и арт-дилерами, но все равно для ярмарок они всегда находят что-то особенно интересное, поэтому я всегда стараюсь на ярмарку прийти пораньше, чтобы быть первой и всех опередить. Международные ярмарки мне тоже интересны, правда, опыта покупки на них пока не было, там у меня скорее аукционный опыт: Sotheby’s, Christie’s. Безусловно, ездить надо, потому что тогда ты понимаешь международный контекст. Не знаю, кто какие делает выводы, но для меня, например, очевидно, что многие процессы происходят в мире параллельно. И это не повтор, не ситуация, что кто-то у кого-то что-то украл, это именно параллели. Когда заходят разговоры о вторичности нашего искусства, меня это страшно раздражает. Я считаю, что надо прежде всего самим у себя изживать это ощущение вторичности.





Насколько для вас важна и интересна личная связь и сопричастность с художником?
Если говорить в контексте коллекции, к сожалению, с художниками старших поколений мне удалось познакомиться совсем коротко, и это было просто знакомство, а не какое-то долгое общение. Всего с несколькими. Я могу назвать Лидию Мастеркову, Владимира Немухина, Дмитрия Плавинского и Оскара Рабина. Ну, и, естественно, слава богу, жив и здоров Франциско Инфанте, мы с ним дружим и постоянно общаемся. Если говорить о современных художниках, то это уже немного другое ощущение. Я очень люблю, когда сам художник рассказывает на выставке о своих идеях. Тогда ты тоже начинаешь смотреть по-другому, видишь нюансы, которые мог бы упустить.








Вы не раз в интервью вспоминали, что коллекционеры и, в частности, Георгий Костаки, поддерживали художников не только впрямую, покупая их произведения, но также приобретая краски, к примеру. Можно ли и нужно ли поддерживать сегодня авторов подобным образом? Времена, возможности и контексты изменились, но если говорить о личной сопричастности, важна ли она для коллекционера и важна ли для художника?
Костаки покупал краски и холсты, потому что не входившие в Союз художников авторы не могли купить их сами физически. Помимо этого он помогал деньгами и вообще чем мог, показывал художников, рекомендовал их кому-то, делал квартирные выставки. И сейчас, мне кажется, точно так же важно помогать художникам в разных планах, разными способами. Для художника очень важно, чтобы его работы показывались и приобретались. В приобретении тоже ведь есть две стороны: с одной, надо на что-то жить, с другой, это признание, когда работа попадает в хорошую коллекцию или в музей.
Время, в котором мы сегодня оказались, особое, оно сделало жизнь художника еще сложнее, так что важно помогать художникам не потерять связи с международным арт-рынком. Сейчас уже не получается так свободно, как раньше, куда-то поехать, где-то поучаствовать, усложнилось передвижение, усложнилось вообще все. Поэтому мне очень нравится то, что делает, например, Андрей Бартенев. Он в Испании очень активно показывает наших художников, понимая, что персональные выставки русского искусства сейчас невозможны. И происходят некие вкрапления художников в какие-то международные истории. И в прошлом году, и в этом на ярмарке Art Madrid он показывал нескольких российских художников. И, кстати, они там производят фурор.
Какие сложности ставит перед художниками сегодняшний день, а в чем им проще, чем, например, художникам того поколения, с которого начиналась ваша коллекция?
Рынок сейчас немного просел, работы современных художников точно покупают меньше. Соответственно, им сложнее и в плане жизненных обстоятельств, и в плане какого-то самоутверждения, и вообще надежды, ответа самому себе: нужно ли вообще мое творчество, может быть, мне не надо этим заниматься? Поэтому тут очень важно поддержать талант и сказать: «Нет-нет, ты молодец! Продолжай!» — заказать какую-то картину, включить автора в какую-то историю, просто поддержать вниманием. Сейчас нужно нам всем помогать друг другу переживать трудные времена.
Давайте поговорим о разнице между государственными и частными музеями. Сами музейные работники часто отмечают некоторую неповоротливость механизмов. Необходимость согласований, различного рода формальности и так далее. Частные же музеи отличает другое мироустройство. Каково оно? И есть ли, наоборот, идеалы, сформированные и сформулированные большими музейными институциями, к которым стремятся институции более молодые?
Когда мы задумались о создании своего музея, у меня в голове сразу появился образ таких маленьких музеев, которых много, скажем, на юге Франции. Это музеи одного художника: Музей Матисса, Музей Кокто, Музей Пикассо. Хотя последний, в Антибе, довольно велик. Короче говоря, изначально мы хотели открыть Музей Анатолия Зверева, то есть мономузей, и нам казалось, что это будет прекрасный формат для представления одного художника. И несмотря на то, что музей частный и небольшой, все равно мы хотели, чтобы там было все, что положено большому музею в том числе, если говорить о каких-то параллелях и общих принципах. То есть мы понимали, что музей — это не только выставочные проекты, но еще и проекты исследовательские, издательская деятельность, образовательная, рассчитанная на разные категории людей, разный возраст, разную подготовленность. Поэтому, например, у нас в музее одно из моих любимых направлений — это детские программы. Потому что я считаю, что очень важно с малых лет приучать человека к хорошему, тренировать глаз на качественном искусстве, развивать то полушарие, которое отвечает за творчество.
Конечно, частные музеи свободнее в выборе программы, они стабильнее в плане финансирования. Государственные музеи тоже стабильны финансово, но там всегда не хватает денег. Частные музеи, например, могут позволить себе поставить отличный свет. Ведь свет в экспозиции — это невероятно важно. И вот то, чего мне всегда не хватает в государственных музеях, обладающих шикарными коллекциями, мощными кураторами, — это свет и другие технические моменты, от которых зависит восприятие. Как антибликовое стекло, допустим. Ты видишь работу из-под стекла, сильно отражающего не очень хороший свет, и тогда ты не видишь ни красок, ни цвета, ни сложности техники.

Сейчас сразу у нескольких больших музеев начинается новая глава. Можно ли говорить о том, что для музея смена директора — это смена эпох? Вы входите в попечительский совет Третьяковской галереи, поэтому изнутри наблюдали процессы последних лет, касающиеся этого музея.
От директора в музее зависит очень многое. Это командир, капитан, правильнее сказать, корабля. За последние несколько лет я многие вещи узнала изнутри и поняла, насколько много было сделано, помимо тех проектов, которые мы все видели, помимо того, что в Третьяковку стали приходить сотни тысяч человек. Когда это было, чтобы стояли такие очереди, чтобы ломали двери от желания посмотреть классику — Айвазовского, Серова? Казалось бы, это художники, которых мы все знаем со школьных времен, но вот как надо было сделать, как их показать, чтобы люди не боялись стоять часами и хотели это увидеть? Эти выставки-блокбастеры стали ярким периодом в истории Третьяковской галереи. В то же время музей не фокусировался только на показе классиков, обращая внимание и на забытые имена, и на современных художников. Не могу не вспомнить наш проект в западном крыле — «Свободный полет». Это было смелым решением Зельфиры Исмаиловны — нас пригласить, разрешить сделать проект по-своему, так, как мы его видели. И мне кажется, получилось очень удачно. Многие сейчас вспоминают этот проект. Конечно, параллельно с этим было участие Третьяковки в важных международных проектах, что тоже важно, чтобы показывать уровень музея и коллекции. Это всегда отражается на репутации страны, улучшает отношение к ней в международном понимании. Поэтому все это было, я считаю, очень достойно, глубоко, разносторонне. Что будет дальше — посмотрим, время покажет. Но, безусловно, фигура директора музея для музея, тем более для большого государственного музея, ключевая.
Если говорить о музейном сообществе, о его реакциях на определенные события, о поддержке или, наоборот, ее отсутствии, как вам кажется, оно сегодня солидаризировано или, скорее, разобщено? И каждый сам за себя и в каком-то институциональном смысле, и в личном?
Это все зависит как раз от личности. Меня в прошлом году очень удивила солидарность музеев в Петербурге, когда мы делали выставку «Лица, лики, морды». Музеи решили нас поддержать и рассказали о проекте. Если говорить про московские институции, например, «Гараж» (я и сама являюсь патроном «Гаража», поэтому постоянно получаю какие-то сообщения и анонсы) тоже постоянно анонсирует разные интересные выставки в других музеях, галереях, в том числе за рубежом. И это тоже говорит о том, что институции и люди открыты к общению и диалогу. Но я думаю, что все-таки это не общие, а скорее пока частные случаи. И опять же это зависит от людей, от их готовности, их открытости.
При этом про мир бизнеса очень часто люди думают, что он жесток. Насколько вы как человек из бизнеса с этим согласны?
Конечно, это правда. В бизнесе совсем другие законы и правила игры, чем в мире искусства. Но все-таки есть исключения. Вы сегодня упоминали Щукиных и Морозовых — это люди, которые были бизнесменами. И если Щукины, по нашим меркам, были миллионерами, то Морозов был миллиардером. И у каждого из них внутри было, я считаю, творческое начало, потому что формирование коллекции — это тоже вид творчества. Мы обсудили, что когда художники создают какую-то работу, а потом показывают ее — это очень волнительный момент. На самом деле для коллекционера это тоже волнительный момент: собираешь коллекцию, тебе нравится, а вот сейчас ты ее покажешь, а кто-то придет и скажет: «Ну, вообще… насобирали тут». Это момент оценки важной части твоей жизни. И вот уже жесткие серьезные бизнесмены волнуются и не могут этого скрыть.
Какие качества, приобретенные в ходе работы, особенно вам помогали при построении музея, при его работе в дальнейшем?
Мой опыт в бизнесе невероятно упростил мне жизнь в искусстве. Я занимаюсь проектным финансированием. Что это значит? Мы создавали компании с нуля, ставили перед ними задачи, иными словами, понимали, к чему идем, составляя поэтапный план, продумывая источники финансирования, анализируя риски. Поэтому когда было решено, что мы делаем музей, я подошла к нему как к проекту. Мне было понятно, с чего надо начать, на какие важные юридические моменты обратить внимание, как продумать цели и задачи, структуру. В общем, все было достаточно понятно, хотя никто из нас, ни я, ни Полина Лобачевская, ни другие члены нашей команды не создавали своего музея до этого. Так что сошлись бизнес и искусство в одном флаконе, и получился наш музей.
В каталоге свое вступительное слово вы завершаете благодарностью команде. Очень часто мир бизнеса рисуют миром индивидуалистским, конкурентным, где каждый сам за себя. Каково ваше отношение к этому? Отличается ли оно в этих двух сферах жизни и работы?
Не отличается. Я считаю, что команда — это огромная сила, которая позволяет тебе все сделать гораздо больше, быстрее и просто масштабнее. Человек может генерировать миллион идей, но потом все равно нужны люди, которые его поддержат. Один человек не может создать бизнес без команды. Да, он пошел и зарегистрировал какую-нибудь компанию, а что дальше? Дальше нужны финансисты, юристы, в нашем случае добывающей компании — геологи. И это все начинает работать как механизм. Я всегда старалась брать в команду людей, которые сильнее меня. Зачем мне брать слабого, если я буду сама больше знать, чем он? Это же неправильно! Нужно брать человека, который будет тебе подсказывать и решать какие-то вопросы, и, в конце концов, ты сможешь ему делегировать полномочия в этом направлении.
Сошлись бизнес и искусство в одном флаконе, и получился наш музей.
Искусство вас окружает не только в музейном поле, но по-прежнему и в личном — это работы, которые находятся у вас дома, на работе. Какая у вас с ними связанность? Нравится ли вам обновлять эти экспозиции время от времени, или, наоборот, это ощущение дома, когда какая-то работа заняла свое место на стене, и она годами продолжает там находиться?
Наверное, первоначально я подбирала работы, чтобы они как-то хорошо смотрелись и радовали всех членов семьи. Ведь бывают работы абсолютно музейного уровня, я их покупаю, потому что понимаю, что они важны, но я бы никогда в жизни не повесила их дома, потому что с ними невозможно жить. А так я бы, наверное, меняла экспозицию, мне нравятся перемены, но это происходит гораздо активнее даже помимо моей воли. Так как у нас постоянно происходят выставки, не успеваю я повесить какую-то работу, как уже просят ее вернуть и куда-нибудь отправить. Тем более, я сама радостно даю работы и на выставки другим музеям. Потому что я уверена, что коллекция должна жить, она должна обязательно участвовать в выставках, показываться, так что большая часть работ у меня постоянно путешествует.
Как вам кажется, изменилось ли сегодня отношение к фигуре мецената или оно не меняется с течением лет и даже веков?
Это очень важная фигура, если мы говорим про наше общество. Мы говорили сегодня уже про Щукиных и Морозовых, они сейчас как бы в «топе», потому что были грандиозные выставки и в Париже, и в Петербурге, и в Москве, это все на слуху последние годы. И немножко мы забыли про Савву Мамонтова, а это же тоже была фигура, которая поддерживала все новое. И то, что не принималось обществом, не принималось в каких-то государственных институциях, это как раз для него было со знаком плюс, он приглашал тех художников к себе, был им патроном. Можно вспомнить его замечательные мастерские в Абрамцево.
Так что люди, которые готовы отдавать, делиться и делать что-то на благо общества, ценны в любое время и любой век. Если говорить про наши времена, тоже есть, конечно, такие люди. Например, Ирина и Анатолий Седых. Они занимаются очень серьезным бизнесом и в то же время понимают, как важно для людей, которые живут в небольшом городке под названием Выкса, быть увлеченными и вовлеченными. Не просто дорога на работу, с работы домой, а выходные — за телевизором. Они настолько вовлекли жителей города в искусство, что теперь все участвуют в театральных постановках, в фестивале. Хотя путь был непростым и полным отрицания. Ну, и конечно, привезти Эрика Булатова и сделать там огромный мурал — это тоже, я считаю, история. Это долгий и трудный процесс. И чем больше будет людей увлеченных, тем больше поддержки будем чувствовать мы все по отношению друг к другу. Зрители, художники, меценаты.