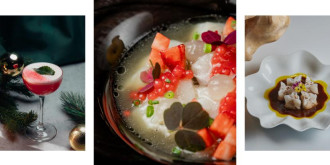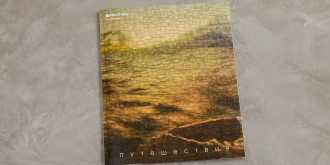Режиссер Семен Серзин — о «Человеке из Подольска», девяностых и успехе артиста

Режиссер Семен Серзин — из тех, кто уверен, что за нас должны говорить наши дела, ведь они обычно погромче слов. Параллельные репетиции и съемки для него — дело привычное. И хоть актером себя Семен не считает, скоро его можно будет увидеть не только в спектаклях-квартирниках придуманного им «Невидимого театра», но и в фильме Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе». Оказавшись на площадке «Петровых» в кадре, а не за ним, после Серзин отправился снимать свой собственный первый фильм — «Человека из Подольска». По одноименной пьесе Дмитрия Данилова он уже ставил спектакль в ярославском Волковском театре, теперь же наблюдать за развитием абсурдистского сюжета можно и на экране.
Пьеса Дмитрия Данилова давно обросла многими — и очень разными — театральными воплощениями, а вот на экране ваша трактовка — самая первая. И история в каком-то смысле трансформировалась. Мы узнали новое о главном герое, том самом человеке из Подольска, появились даже 90-е на мгновение.
Не знаю, что конкретно, но что-то видоизменялось, наверное. Кино – это в первую очередь визуальное восприятие, а текст – это текст. И хотя все диалоги в большей степени сохранились, но по количеству, по общей массе их стало меньше. Так получилось, потому что мне показалось, что нужно рассказать о главном герое. Мы ведь на всю эту историю смотрим именно через него, подключаемся к нему, поэтому вокруг текста Дмитрия Данилова появлялись такие дополнительные сцены про героя. Ну и еще, уже продолжая думать про этот материал в контексте фильма и про эти все вопросы, которые задают полицейские человеку из Подольска, упрекая, что он не замечает красоты, я размышлял о том, насколько мы все иначе видим и воспринимаем в детстве. Вот, допустим, я вспоминал свои 90-е: как мы во дворе играли в «квадрат», находили какую-то хрень на разбитых детских площадках и нам все это было интересно. В детстве все кажется новым, и какие-то вещи ты видишь первый раз. Может быть, поэтому в фильме и возник этот флешбек с 90-ми, как другое ощущение мира, которое по большому счету, наверное, не меняется, а меняешься ты сам по отношению к миру.
Понятно, что несчастным можно быть в условном Нью-Йорке или Париже точно так же, как в Подольске, и счастливым — тоже, но все-таки насколько настроение и умение заметить и оценить красоту могут зависеть от места?
Я вот ездил в Подольск, и там выгореть можно намного стремительнее, чем, мне кажется, в Петербурге, или в Москве, или в каких-то менее подходящих для выгорания местах.

Это связано именно с обстоятельствами окружающей действительности, с серостью?
Ну да, иначе не было бы абсурда, получилась бы нравоучительная история о человеке, который не видит ничего, что вокруг него происходит. Мне думается, что он-то как раз очень хорошо видит, и в сравнении полицейские начинают жонглировать его же словами, все выворачивать наизнанку и делать так, как им это удобно. Поэтому, наверное, они и являются властью в этой ситуации. Это все-таки не история про поучение, это про выбор и вообще про ощущение самого себя в городе, в котором ты живешь, в стране, в конкретной точке, в этом месте. Вокруг пьесы, спектакля, а теперь и фильма были возгласы многих: «Мол, я же тоже не замечаю, какого цвета стены у меня в подъезде…» Может быть и такая позиция, такое ощущение от увиденного.
В контексте сюжета пьесы закономерным кажется вопрос о том, можно ли научиться замечать эту красоту, на которой так настаивают сотрудники полиции?
Когда мы учились, наш мастер Вениамин Михайлович Фильштинский давал такое задание: каждый день видеть что-то красивое. И ты волей-неволей начинаешь это замечать в своей обыденной жизни, но это не совсем определяет те вопросы, которые есть в этом материале. Потому что сравнивать Подольск и Амстердам можно, конечно, но тогда ты имеешь полное право выбрать Амстердам. Есть люди, которые сделают выбор в пользу Подольска, а есть те, которые не задумываясь скажут: «Амстердам», и нельзя ни за кого принимать это решение.

У нас, мне кажется, свой родной город все сравнивают не столько с Амстердамом, Римом, Лондоном и так далее, сколько с Москвой и Петербургом. Вы много ездили по стране, ставя спектакли, замечали этот жизненный контекст сопоставлений?
Я 19 лет прожил в Мурманске, поэтому такие поездки — это возвращения, наверное, в мою юность, в детство, потому что я не столичный человек. Я долго жил в Петербурге, сейчас в Москве, но все равно в какой-то степени ощущаю себя здесь тем, кто приехал. Поэтому я эту связь не теряю, но и не скажу, что она мне так нравится. Например, последний раз я был в Кудымкаре. И сложно полюбить такой город, где ничего не происходит для людей, где все находится вот в таком состоянии. Амстердам любить легко, это классный город. Я вот думал, если спроецировать эту пьесу на Европу— хотя ставили ее в Германии, в Эстонии, но все-таки в основном в СНГ —, перенести ту же ситуацию в Амстердам, где полицейские начинают спрашивать человека из маленького идиллического городка: «Почему ты не замечаешь прекрасного?» Сложно замечать прекрасное, когда живешь в говне. Потому что, если абстрагироваться и вот так просто посмотреть на этого Фролова, на то, как он живет и как пытается: конечно, он слабый человек, он не супергерой, не прыгнул выше головы, но он такой, какой есть, и, наверное, это его право – быть таким. Он никого не убил, ничего не сделал никому плохого.
Человека из Подольска, который не совсем понимает, что происходит, сыграл Вадик Королев, тоже, кажется, не очень осознававший, что вокруг творится, поскольку он не актер, а музыкант, а тут площадка, партнеры, камера-мотор, дубли, и так изо дня в день. Продюсер фильма Наталья Мокрицкая, в общем-то, не скрывает, что приняла ваше решение не сразу, но все-таки доверилась. Как общаться на площадке с артистом, который на самом деле не артист, как ставить ему задачу, чтобы напугать в достаточной мере, но не слишком?
Ага, хотите, чтобы я тут секретики все раскрыл? (Смеется.) Если бы я знал, как выстраиваю задачу… (Смеется вновь.) Я склонен думать, хотя у меня совсем никакой опыт, но он все-таки теперь есть, пусть и минимальный, что кино снимает себя само. Да и спектакли тоже — они тебя делают, а не ты их. Я несу за все происходящее какую-то ответственность, но все равно это совокупность обстоятельств, складывающихся определенным образом. В моих размышлениях о материале не было чего-то умозрительного: «Так, я буду делать сейчас "Человека из Подольска", и как бы мне так вывернуться классненько и сделать какое-то необычное распределение ролей? Ага, есть такой музыкант – Вадим Королев, позову-ка я его». Было страшно пригласить, наоборот, артиста, хотя мы даже начинали с Юрой Борисовым читать материал, он должен был сниматься потом в другом проекте, а нам надо было начинать, и в итоге не сложилось. Это действительно непростая задача – ничего не понимать. Любой нормальный артист будет тебе говорить: «А что я здесь делаю? А как именно не понимаю?» Сложно это. А так как-то органично все соединились, и Наталья мне поверила, хотя мы записали плохие пробы… Я все эти пробы не умею записывать и делать, кастинги ненавижу и как артист, и как режиссер, и в театре тоже это не люблю. Мне всегда кажется, что это не по-настоящему.
В общем, я до конца не понимал, что происходит, честно скажу, но у меня была уверенность какая-то дурацкая… Я пришел снимать кино, я не умею этого делать, но я начал снимать, делая вид, что умею. Все в это поверили и включились. И я как-то снял, мы смонтировали, и я потом смотрел сам, уже успокоившись, и это такой адреналин, потому что ты не до конца осознаешь, что происходит. Я когда смотрел фильм на проекторе дома, все время думал: «Блин, а что Вадик тут играет? А сейчас? Нифига себе!» Он действительно большой артист. Не имея никакого чемоданчика со штампами и всякими ремесленными штуками, он очень подробно для себя разобрал всю роль. Я с ним ничего не разбирал. Я его куда-то отправлял, и он там существовал. Были и сложные моменты тоже. Я старался вообще его как артиста ничего не просить делать, а просто как-то чуть-чуть подгонял. И он действительно не понимал, по каким законам многое происходит, и это тоже, наверное, сработало.

Давайте еще поговорим про актеров. У вас сложился по-настоящему замечательный ансамбль, где есть Виктория Исакова, которую хорошо знают зрители и театральные, и смотрящие кино, есть ваши соратники по «Невидимому театру», есть Владимир Майзингер, игравший в вашей театральной версии «Человека из Подольска». И кажется, что сейчас все кастинг-директора должны ухватиться за ваш выбор, потому что на экране появляется много новых и совершенно отечественному кино необходимых лиц. Не хочется сводить все к вопросу, почему их до того не звали сниматься, но все-таки?
Мне кажется, какие-то продюсеры или режиссеры не то что не берут сниматься артистов, а просто их не знают, и на этом все заканчивается. А я как раз из-за того, что объездил, до того как начать работать в Москве, много мест, знаю очень много крутых артистов, по каким-то причинам не очень известных. Нереальный артист, к примеру, – Олег Ягодин, он не поедет в Москву просто так, ему это не надо, но он действительно выдающийся актер. Я, честно говоря, думал, что мне не дадут этого сделать, и для меня это было просто вау, когда на какие-то эпизоды я привез свою питерскую шайку-лейку. Там была сцена, которую незнакомые друг с другом люди не смогут достоверно сыграть, а это ребята, которые за столом друг с другом не раз сидели.
У вашего мастера, Вениамина Михайловича Фильштинского, есть фраза, о которой вы иногда в интервью вспоминаете. Он считает, что все должно быть через сопротивление, и если все сразу получается, удается, то это в некотором смысле даже неправильно и странно. Насколько вы с этим согласны? Действительно ли в кино и в театре все должно быть через сопротивление?
Я когда-то не совсем правильно для себя его эту формулировку, его это высказывание воспринимал – как некую отправную точку, что ты должен вгонять себя в обстоятельства, брать материал, который ты не до конца чувствуешь, но думаешь, что справишься, брать артистов, с которыми ты надеешься справиться, брать какие-то обстоятельства, площадки, театры и так далее, где наперекор всему нужно существовать. Мне кажется в итоге, что это сопряжено с его, Вениамина Михайловича, вот этим вот ощущением правды. Он доводил нас до белого каления, чтобы была правда, чтобы я в это верил до конца. И наверное, нужно заниматься тем, что у тебя получается, но все время где-то держать этот звоночек такой: «А ты сейчас не врешь, ты сейчас не обманываешь самого себя и всех?» «Это действительно так, это честно, это по-настоящему?» И так надо проверять себя. А если нет – значит, тебе это не надо. Но вот установка наперекор всему — я понял, что она, на самом деле, не дает никаких адекватных плодов. Еще Вениамин Михайлович всегда говорил, что самое важное — это артисты. То есть любой кастинг, условно говоря, кто играет этот материал, это 80 процентов того, что получится. И если ты это делаешь неточно, неправильно, если все некрасиво, не на своих местах, вряд ли что-то получится. С этим я согласен.

У успеха всегда было много разных проявлений, в том числе внешних, но теперь особенно. Все они могут если не сбивать фокус, то отвлекать. Как во всем этом не теряться и помнить о том, что важно?
Непростой вопрос – как вообще существовать современному артисту, как не потеряться. Я не знаю, как не потеряться. Наверное, если ты понимаешь, ради чего ты это делаешь, значит, продолжаешь. Но не потеряться очень сложно, потому что — я по себе сужу —, если что-то резонансное происходит, это классно, и появляется очень много каких-то интервью, обсуждений… Не на все надо соглашаться, не со всеми говорить, но важно проговаривать какие-то вещи. И вокруг появляется много всего нужного, на самом деле, но это занимает очень много времени. Вообще, я почувствовал такую вещь – не то что ты на гребне волны успеха, ничего такого нет, конечно, но ты что-то такое сделал, и возникает немного мнимая штука: а вот дальше ты должен делать что-то, чтобы не опустить планку. Наверное, это неверно. Как это может быть? Это же жизнь, и у тебя сейчас получилось, а дальше… ну, круто, если получится еще. И возникает такое псевдопристальное внимание самого себя к самому себе, и это надо как-то немножко сбить, наверное: «Окей, дальше я занимаюсь делами, что-то получится лучше, что-то хуже». Наверное, так.
Тем, кто одновременно и снимает, и снимается, то есть актерам и режиссерам в одном лице, этот вопрос задают нередко, но все-таки: как переключаться и как не начать, например, давать какие-то комментарии относительно роли на чужой площадке, когда вы в кадре, а не за ним?
Самое страшное, что подобное желание иногда возникает, и это фиаско. Когда случается необходимость у тебя внутри подсказать, это неправильно. Я иногда, когда играю сам, не задаю вопросов, потому что как режиссер все понимаю. Ну и, получается, зачем их задавать. А так, если у тебя есть полное доверие к режиссеру, что бы он там ни делал, ты приходишь и доверяешься. Я сам это ненавижу как режиссер, когда артисты начинают заниматься твоей работой. Это неправильно, это размывает все границы. Не может быть демократии ни на площадке, ни в театре.

Когда вы снимались у Кирилла Серебренникова в «Петровых в гриппе», наблюдали, делали для себя заметки и как режиссер тоже? Ведь, получается, те съемки были перед запуском вашего собственного полнометражного режиссерского дебюта.
Для меня это был крутой опыт, потому что это настоящее большое кино, такое многоуровневое, многослойное, непростое, очень авторское. С невероятным оператором Опельянцем. И для меня это, конечно, перед моими съемками был такой опыт, когда я ходил и впитывал как губка происходящее на площадке. Это один из лучших примеров площадок, где я бывал. Я не так много где как актер снимался, поэтому для меня это была такая пружина, которую я заводил, чтобы потом отправиться в свою историю. Я так это воспринимаю. То, как выстраивает процесс Кирилл Семенович, мне очень близко, но такого, чтобы я умышленно что-то позаимствовал, не было. Зато есть один определенный ход, который я действительно — и умышленно — украл. Но не у Кирилла Семеновича, а у Михаэля Ханеке из фильма «Забавные игры». Это был главный эмоциональный референс кино про формы насилия над человеком, только там оно физическое, а здесь психологическое.
«Невидимый театр», который вы придумали, часто дарит зрителям ощущение сопричастности, обладания какой-то тайной. Вроде того, что вот идут люди по улице и они не знают, а я знаю. Вам важно, рассказывая о театре, этого не потерять?
Да, мне нравится, когда у тебя есть какая-то исключительная вещь, ты себя чувствуешь причастным к этому. Вообще, в принципе, ты должен проделать какую-то работу, чтобы прийти на спектакль. У нас нет у театра дома, где все пошли в буфет, расселись, ждут. И для артистов это тоже так. Идея в каком-то содружестве и в необходимости просто быть вместе. Для меня «Невидимый театр» – это форма дружбы, форма такой любви друг к другу, которая выражается в том, что нас объединяет не то, что мы пошли выпить пива, прогуляться или что-то еще, а есть какие-то общие темы, которые нас волнуют, на которые мы делаем спектакли. Кстати, возвращаясь к вопросу про успех. Это мой камертон – «Невидимый театр». Когда играем спектакли, мы и есть этот камертон друг другу. Ты не можешь наврать перед своим товарищем, ты не можешь сыграть хуже, чем он, все очень видно, и просто «пацаны не поймут». Когда мои ребята пошли смотреть «Человека из Подольска», мне было очень важно, что они скажут. Они не будут мне врать, а скажут, как есть, классно или нет. И мне всегда хочется, чтобы зритель чувствовал себя сопричастным, и я всегда всей нашей небольшой команде говорю, что мы должны очень хорошо знать, кто приходит. Если кто-то приходит два раза или три, чтобы мы адресно обращались к каждому зрителю. Потому что аудитория не такая большая.

А в классическом большом театре, со сценой и залом, дистанция меняется? Вы сейчас выпускали в Приюте Комедианта спектакль «Киса». Как было там?
Я бы не сказал, это не та дистанция. У нас тоже бывают спектакли, где есть сцена и зал, и это нормально, если материал подразумевает такую необходимость, когда есть люди, которые смотрят конкретно на то, что происходит на сцене. Кстати, Приют Комедианта хоть и репертуарный театр, но единственный в Петербурге театр без своей труппы, и все равно я собрал свою же банду, и мы просто там. Тот же самый «Невидимый театр», только мы репетировали не неделю, как обычно, а два месяца. Но бывает такое, что артистов, привыкших работать на большой сцене (у меня такое было в Волковском театре), на тысячный зал, нужно сдерживать. Потому что у них столько энергии, они в таком тренинге большого зала, что стоит вносить какую-то документальность. Но это из-за того, что они многие годы так работают. А когда ты сегодня снимаешься в кино, завтра играешь в подвале, а послезавтра — на большой сцене, ты находишься в тренинге в любом случае и, в принципе, спокойно переключаешься. Ты просто понимаешь, какие регистры нужно открыть. На большой сцене не можешь так же играть, как на маленькой, если там необходимо существовать точно, честно, по сути и так далее, а не вообще. Просто происходит другая реализация энергозатрат.
Вы сначала режиссер, а потом актер? Или и то, и другое одновременно? Или первоочередность здесь вообще не имеет значения?
Я режиссер, да, а актер просто иногда. Я не могу сказать, что я актер. Даже когда я где-то снимался, то так не говорил. Актер – это немножко другое ощущение себя, наверное, в профессии. Не в смысле, что это для меня хобби: если я работаю артистом, я честно все делаю, но для меня это обычно такой отдых. Появляется возможность сконцентрироваться только на самом себе, а не на всем. Наверное, когда ты все время артист, и ты все время сосредоточен только на самом себе, сложно с этим справляться. Мне кажется, это непростая профессия.
Вы не раз рассказывали, что в Мурманске, где вы росли, все хотели стать моряками, и вы в том числе.
Это просто заложено там, ты должен хотеть.
А можете представить, что действительно стали моряком?
Мне кажется, такая жизнь в некоторой степени мне знакома. Мне казалось всегда, когда мой папа уходил в море, он уходил куда-то там в Африку, в Германию, на Багамские острова, и в этом что-то есть такое. То есть ты уходишь в какое-то плавание, каждый раз примерно представляя, что там будет происходить, но ты не знаешь, что там будет, что ты там увидишь, кого встретишь. Мне кажется, по сути это то же самое, как когда ты работаешь режиссером. Ты идешь в какое-то плавание со знакомыми тебе людьми, иногда не совсем с знакомыми. Иногда на судне, которое ты знаешь, ты на нем плавал, как в «Невидимом театре», или на котором разок плавал, как в Приюте комедианта, иногда на котором никогда не плавал, как в случае с «Человеком из Подольска». У меня друг детства, мы с ним недавно встречались в Выборге, я там снимался, а у него стоит там судно. Мы с ним разговаривали, и по сути, я не знаю, ты уходишь сниматься или снимать проект – на месяц или два месяца ты 12 часов в сутки фигачишь, ты не видишь ничего, кроме своего вагона и съемочной площадки, и это группы. Ты приходишь домой поспать, просыпаешься и едешь опять. И так же ты уходишь в плавание – он работает на трале, они там фигачат эту рыбу или краба, уходят на два месяца и возвращаются. Ты идешь в какой-то процесс, а потом чуть-чуть приходишь в себя, живешь, там что-то еще, а потом снова отправляешься в какую-то такую ситуацию. Кажется, я себе представляю жизнь моряка.