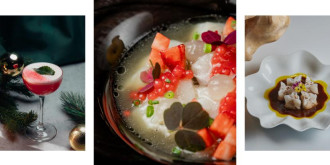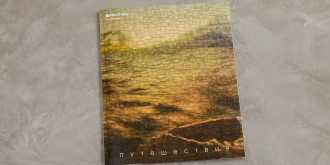Патти Смит: «Писательство для меня — форма молитвы»

Первым, что сказала мне Патти Смит, было «Ой». Почти никогда и ни с кем она не общается по видеосвязи, предпочитая телефонные разговоры. «Изображение можно отключить, — ответил я. — И тогда будет как по телефону». — «Да, давайте так и поступим. Впрочем, нет, стойте. Я вроде и правда так раньше не делала, но это может быть по-своему интересно. Никто ведь, кроме нас с вами, этого не увидит?» — «Нет». — «Тогда подождите, я поднимусь на второй этаж и можем начинать».
Прежде всего мне бы хотелось поговорить о тропинках, ведущих от ваших ранних работ к новым или — возьмем шире — сравнительно недавним. В книге «Я пасу облака», впервые опубликованной в 1992 году, есть глава о некогда принадлежавшем вам индийском рубине, который вы впоследствии потеряли. Глава совсем коротенькая, но она врезается в память. Больше двадцати лет спустя в «Поезде М» вы написали: «Вещи, которые мы теряем, возвращаются туда, откуда пришли, к своим первоистокам: распятие — на свое живое дерево, рубины — на свою родину в Индийском океане». Это ведь отголосок той самой давней истории, верно?
Так и есть. Правда, для меня здесь важен не столько рубин — он был небольшой, несовершенный и особой ценности не представлял, — сколько тот, от кого он мне достался. В свое время мне подарил его мой близкий друг, молодой поэт Пол Гетти, — к слову, один из наследников династии Гетти, тот самый, которому ухо отрезали. Знаете эту историю?

Нет.
Пол был внуком самого богатого на тот момент человека в мире. И, по-моему, в начале семидесятых его, тогда еще совсем мальчика, похитили, потребовав огромный выкуп. Дед Пола, владелец компании Getty Oil, не поверил угрозам и отказался платить. Тогда они отрезали Полу ухо и отправили деду по почте. Вскоре после той истории с похищением мы познакомились с Полом и очень сблизились. Он был взбалмошным, чокнутым на всю голову — и неповторимым, неподражаемым. Когда у меня вышел альбом Horses, Пол сопровождал меня в гастрольном туре по Америке. Мы оба были молоды, жадны до впечатлений, оба увлекались поэзией; путешествовали вместе — были в Неаполе, однажды посетили могилу Ван Гога. И тот рубин, единственный подарок от Пола, я, конечно же, особо берегла. Чего я только в жизни ни теряла — деньги, произведения искусства, свои блокноты. И тем не менее есть несколько пропавших вещей, которые не выходят у меня из головы. Гребень — самый первый подарок от мужа. Я всегда клала его на ночь под подушку — так и потеряла: забыла вытащить из-под подушки гостиничной кровати во время какого-то путешествия. Тот гребень, тот рубин, мое черное пальто –– меня преследуют их призраки, хотя речь вроде бы всего лишь о вещах.
Я как раз собирался спросить о пальто, которое вы только что упомянули. Его история — еще одна тропинка, ведущая теперь уже от «Поезда М», где вы рассказываете о том, что это тоже был подарок поэта, который вы потеряли, к «Году обезьяны», на страницах которого в определенный момент появляется тот самый поэт, Рэй, и говорит, что пальто к вам вернется.
Знаете, что забавно? Некоторое время назад я нашла фотографию, на которой я как раз в этом пальто. А снимок сделал Рэй — то есть при том, что пальто так и не нашлось, история в каком-то смысле закольцевалась.
Примерно год назад, когда «Год обезьяны» вышел в США, вы сказали в одном интервью, что эта книга — вторая часть трилогии.
Да, «М-трилогии», как я сама ее называю. М — заглавная буква для многих важных слов: мышление, мистицизм, мама. (Улыбается.) Сперва был «Поезд М», затем появился «Год обезьяны» (ориг.: Year of the Monkey). Теперь я работаю над третьей частью. Она будет во многом посвящена пандемии — охватившей мир пандемии климатических изменений.

А слово на букву «м» для заглавия третьей книги можете назвать?
Пока это секрет. Вы вообще первый, кому я сказала, что уже пишу ее.
В «Поезде М» есть своего рода сквозная линия — ваши периодические диалоги с воображаемым ковбоем. Кстати, я правильно понимаю, что этот ковбой списан с Сэма Шепарда?
Совершенно верно. Сэм так или иначе фигурирует во многих моих книгах. Я достаточно подробно описала наши юношеские отношения в «Просто дети». В «Поезде М», как вы точно подметили, с него списан ковбой. И он снова предстает в своем реальном обличии в «Годе обезьяны» — сперва живой, потом как сновидение. Я очень по нему скучаю. И продолжу писать о нем.
В «Годе обезьяны» вы используете схожий сюжетный прием и описываете несколько встреч –– по большей части случайных, незапланированных –– с молодым человеком по имени Эрнест. Как и ковбой, он появляется, в общем, из ниоткуда и вскоре становится вашим постоянным собеседником. Но в случае с Эрнестом я так и не смог разгадать, реальный он персонаж или вымышленный.
Вымышленный. Я бы даже сказала, что это собирательный образ. Мне был нужен в этой книге друг, определенный тип друга: умный, начитанный скиталец, который любит литературу и пьет чуть больше, чем следовало бы. Вот я и придумала Эрнеста. Вообще, в «Годе обезьяны» довольно много вымышленных и собирательных образов. Например, Кэмми, девушка, которая подвозит меня на «Лексусе» в Сан-Диего: мне хотелось создать намеренно старомодный персонаж, напоминающий о женщинах с юга Нью-Джерси, говорливых труженицах, среди которых я провела детство, — как будто одна из них попала в наше время прямиком из 1950-х. Некоторые герои и вовсе будто бы сами собой появились. То есть я же вроде бы нон-фикшн пишу, что-то вроде автобиографии в режиме реального времени. И тут внезапно даже не придумывается, а именно появляется откуда ни возьмись герой и заявляет свои права на место в книге.

Ближе к концу вашего мемуарного романа «Просто дети» в тексте встречается несколько описательных кусков, которые, во всяком случае, по моим ощущениям, вы адресуете не читателю и даже не самой себе, а Богу. В «Поезде М» подобных моментов больше. «Год обезьяны» в этом смысле и вовсе читается как развернутая молитва.
Спасибо вам за эти слова. Правда, спасибо. Не думаю, что как писатель получала комплимент лучше. Я очень много молилась в детстве, постоянно. Одно время даже думала, что стану миссионеркой. Когда у меня самой родились дети, пока они росли, я тоже часто и подолгу молилась. Но потом умер мой муж, и что-то переменилось. Понимаете, мы постоянно с ним разговаривали, дни напролет, все время проводили вместе. И после его смерти я обнаружила, что, пытаясь молиться, просто продолжаю разговаривать с ним. Потом не стало моих родителей и в молитвах я стала чаще обращаться к маме. Временами я переставала понимать, кому, собственно, молюсь –– Богу? Или маме? Начинала плакать, но, опять же, –– кого я оплакивала? Мужа? Роберта? Мою собаку? Моего брата? Но в определенный момент я поняла, что это не имеет значения. Что все эти молитвы и слезы исходят из одного источника, из любви. То, что я скажу дальше, может прозвучать бессвязно –– заранее простите, –– но мне важно прямо сейчас, пока мы говорим, это сформулировать. Когда я поняла, еще девочкой, что хочу посвятить свою жизнь искусству, то верила, что это призвание от Бога. Потому что так оно и есть. Иногда это призвание, от которого ты предпочел бы отказаться, быть, ну, просто нормальным человеком, просто жить. Но повлиять на это ты не можешь. Как в финале фильма «Андрей Рублев» –– помните, что он, нарушая обет молчания, говорит тому мальчику? «Вот и пойдем мы с тобой вместе. Ты колокола лить, я иконы писать». Он родился с этим призванием, с этим даром, ему это Бог дал. Невозможно убежать, спрятаться от того, что составляет твою суть. И вот я пишу — а пишу я каждый день, — и, бывает, думаю: где все мои молитвы, куда делась эта связь? И ваш вопрос, точнее, то, что вы разглядели в моих текстах, — это ответ мне. Ничего никуда не делось. Писательство –– это моя форма молитвы.
Вы не возражаете, если я закурю сигарету?
Да, пожалуйста. Вообще, у меня аллергия на табачный дым, но по видеосвязи же это не передается. (Закашливается.) И вот я кашляю. (Смеется, закашливается еще сильнее.)
Патти, все в порядке?
Ага, не обращайте внимания. У меня этот кашель уже сорок пять лет не проходит –– о чем я, кстати, несколько раз в «Годе обезьяны» упоминаю.
В России перевод «Года обезьяны» выходит под одной обложкой с повестью «Преданность», которую вы написали несколькими годами ранее. Насколько я понимаю, это ваше первое опубликованное произведение, проходящее по разряду, что называется, художественной литературы?
Да, именно опубликованное. У меня достаточно много прозы, написанной в стол. В 80-е, например, я исключительно художественную литературу писала. А потом с книгой «Просто дети» погрузилась в мир нон-фикшна, и, надо сказать, это оказалось настоящей пыткой. Потому что мне приходилось переосмысливать и заново проживать события собственной жизни. А новелла «Преданность» — да, чистый вымысел. Я написала ее, сама того не ожидая, в поезде, шедшем из Парижа на юг Франции.

Опыт работы над фикшн и нон-фикшн для вас в чем-то отличается?
На самом деле, лишь одну из моих книг можно причислить к чистому нон-фикшну — «Просто дети». Там нет вымысла, все, о чем я в этой книге написала, было на самом деле. Но в других моих работах, включая «Поезд М» и «Год обезьяны», я, если можно так выразиться, более безответственна. Я писала не только о том, что действительно пережила, но и о том, что по тем или иным причинам само собой встраивалось в текст. В «Поезде М» этого по-прежнему сравнительно немного, но «Год обезьяны» процентов на 40 состоит из вымысла. В этом смысле мне очень близок Жан Жене, который встраивал в мемуарную прозу, например, сновидения; факт у него нередко оборачивался поэзией, поэзия уводила мысль в сторону выдумки. Когда я была молода, именно это и называлось литературой. Теперь, во всяком случае, в Америке представители книжного бизнеса зачастую не знают, к какой категории писателей меня причислить — у них теперь все делится на фикшн и нон-фикшн. На самом деле, если ты пишешь литературу, зона твоей ответственности ограничивается персонажами –– и только; больше ты никому ничего не должен. Работая над той же «Преданностью», я вдохновлялась множеством событий и людей из реальной жизни — юной русской фигуристкой, которую случайно увидела по телевизору, самим по себе фигурным катанием, хотя сама я никогда не каталась, текстами Артюра Рембо, — а ставшая повестью история написалась сама, я вообще ничего в этом смысле не планировала.
Мне очень понравился прием, который вы использовали, — поместили повесть в своего рода автобиографический кокон. Мне кажется, я еще не читал ничего подобного — чтобы вымышленная история была столь плотно переплетена с историей ее создания и личной историей автора.
Это тоже получилось, в общем-то, случайно. В рамках мероприятий, приуроченных к вручению литературной премии Уиндема-Кэмпбелла, меня пригласили прочесть лекцию, которую впоследствии планировалось издать отдельной книгой в их серии Why I Write [«Почему я пишу»]. А я, ну, в общем, не эссеист — у меня иной склад ума, и написать что-то развернутое и сложносочиненное на эту тему никак не выходило. В какой-то момент я поняла, что для меня проблема в постановке вопроса, и вместо того, чтобы рассказывать, почему я пишу, я лучше расскажу о том, как я пишу, при каких условиях, в каких обстоятельствах, что при этом происходит в моей жизни. И вот я написала повесть — и одновременно дала читателю все ключи к ней, рассказала, как те или иные образы попали на страницу. Потому что вот я внезапно посещаю могилу Симоны Вейль, потом получаю приглашение от семьи Камю, а до этого — смотрю эстонский фильм. Все это не может не влиять на мою жизнь и на мое письмо. И в центре этого — история, резонирующая абсолютно со всем, что со мной происходит. Таким образом, получился как бы трехмерный образ жизни писателя — почему я пишу, что я пишу, как я пишу: вот моя жизнь; я люблю поезда и отели; я пишу в блокнотах; вот эти люди и эти темы прямо сейчас занимают мои мысли. Мне хотелось, чтобы книжка получилась одновременно философской и чтобы при этом там было много воздуха; чтобы она отражала бродяжнический аспект жизни писателя. Потому что я сама — бродяга.
Последний вопрос. В конце «Поезда М» есть фраза, которая не дает мне покоя вот уже четыре года: «Возможно, я проживу так долго, что Нью-Йоркская публичная библиотека будет просто обязана вручить мне прогулочную трость Вирджинии Вулф. С тростью я стану обращаться бережно — ради Вирджинии и ради камней в ее карманах. Но, как бы то ни было, останусь жить, не откажусь от своего пера».
Я понимаю, о чем вы — и, да, это может несколько сбивать с толку. Но, говоря «не откажусь от своего пера», я ни в коем случае не осуждаю Вирджинию Вулф за ее выбор. Потому что это был именно выбор, сознательный. Мне абсолютно понятен ее поступок — я даже грусти по этому поводу не испытываю. Всю жизнь она страдала от чудовищных мигреней, не проходивших порой неделями. У меня тоже бывали мигрени, и во время этих приступов смерть порой кажется единственным выходом. Я изучала ее работы, читала ее письма и считаю, что решение покончить с собой она приняла в один из тех периодов, когда ее сознание было чистым и ясным. Более того, она ведь дважды пыталась это сделать. В первый раз карманы ее пальто были пусты — и попытка провалилась. Во второй раз, прежде чем войти в реку, она набила карманы тяжелыми камнями — и все удалось. Думаю, на том этапе жизни свобода, в том числе чисто физическая, была для нее важнее, чем писательство; важнее, чем семья, чем время, проведенное с сестрой, с мужем. И она выбрала свободу — и да, в этом смысле отказалась от своего пера. Написав прощальные записки, она оставила рядом с ними и ручку. Повторюсь, я ни в коем случае не осуждаю ее. Но также я знаю — насколько я вообще знаю саму себя, — что подобный выход не для меня. В детстве я очень много болела, в том числе туберкулезом, дважды чуть не умерла, мама меня выхаживала. Борьба за жизнь вошла у меня в привычку, укрепила меня. И теперь я дорожу жизнью. Мне нравится быть живой, нравится, что у меня есть возможность что-то еще написать или дождаться выхода новой книги какого-нибудь писателя, которого я особенно люблю. Еще раз пересмотреть любимый фильм. Наблюдать, как мои повзрослевшие дети становятся еще старше. Несмотря на то что в жизни столько печали, боли, горя, я все равно выбираю жизнь. Каждое утро я просыпаюсь и у меня в голове звучит строчка из песни Джимми Хендрикса «Hooray, I wake from yesterday» («Ура, я просыпаюсь от вчера»). Именно так я себя чувствую каждое утро, каждый день. Что-то я увлеклась. Кстати, забавно, что вы эпизод с тростью упомянули, потому что трость Вирджинии Вулф вновь появится в моей следующей книге. Подобно тому рубину, с которого мы начали.