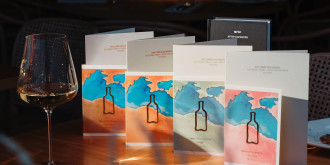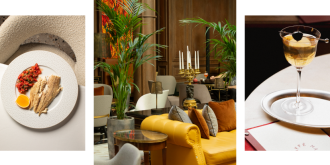Чем Карл Брюллов восхитил императора и что можно увидеть в Третьяковской галерее

Карл Брюллов — целая вселенная. Кто-то в этом убедится, кто-то — поймет впервые, рассмотрев карикатуры, безлюдные пейзажи, «Всадницу» и, конечно, «Последний день Помпеи», произведение, без которого московская выставка не могла обойтись никак. 170 произведений собрали из 17 музеев России и Армении и из частных собраний.
Брюлло
Карл Брюллов был правнуком Георга Брюлло, одного из сотен тысяч французских гугенотов, бежавших из страны вслед за отменой Людовиком XIV Нантского эдикта. С 1685 года, как началась эпоха преследований протестантов, скульптор Георг Брюлло вместе с семейством обосновался в Люнебурге, в Нижней Саксонии. А затем был приглашен в качестве лепщика форм в Петербург на Императорский фарфоровый завод. Так семья оказалась в Российской империи. Внук француза Пауль также посвятил себя искусству. Обучившись в Академии художеств золотарному и лакировальному мастерству, он стал известным скульптором-орнаменталистом. Например, драконы на Скрипучей беседке в Царском селе — его рук дело.
В браке с дочерью придворного садовника Марией-Элизабет Шредер у Павла Ивановича Брюлло родилось пятеро детей. Сыновья Брюлло рождались с готовой судьбой. Все пошли по художественной стезе.
Карл, третий, рос ребенком болезненным, страдавшим золотухой. До пяти лет его держали в постели, летом из-за аллергии закапывали в песок во дворе дома на Васильевском острове. Родитель-тиран, не знавший, что такое праздность, требовал, чтобы сын ежедневно «опрятно рисовал» положенное число животных и человеческих фигур. В случае невыполнения нормы оставлял без завтрака. Разгневавшись, однажды влепил мальчику такую пощечину, что тот стал глуховат на левое ухо, причем на всю жизнь. Несдержанность передастся по наследству: много позже в минуту недовольства работой над «Вирсавией» Карл Брюллов запустит в полотно сапогом. Следы той темпераментной реакции в виде прорывов на руке и теле героини подтвердили технологические исследования, проведенные Третьяковской галереей в преддверии нынешней выставки.

Выставка «Карл Брюллов. Рим — Москва — Петербург». Справа — автопортрет Брюллова
С братом Александром Карл поступил в Академию художеств, блестяще ее окончил, был выпущен с большой золотой медалью за картину «Явление Божие Аврааму у дуба Мамврийского в виде трех ангелов».
Однако стипендию и право стажироваться в Италии от Академии не получил. Помогло Общество поощрения художников и конкретно инициатор его учреждения, Петр Андреевич Кикин. Карл в благодарность написал портреты полковника в отставке и его супруги, Марии Ардалионовны Кикиной, в девичестве Торсуковой, тонко прописав прозрачное кружево и страусиное перо на головном уборе молодой дамы. Жанр портрета, считавшийся тогда в Академии низким, особенно привлекал молодого живописца. Общество поощрения художников назначило Брюллову пенсионерство на четыре года, но продолжалось оно в итоге целых 13.
Перед самым отъездом с высочайшего разрешения императора Александра I братья Брюлло русифицировали фамилию, добавив к ней «в». Провожавших его в Италию 16 августа 1822 года отца, мать и меньших братьев Карл Брюллов в живых уже не увидит.

Выставка «Карл Брюллов. Рим — Москва — Петербург». Слева — автопортрет Брюллова, 1848
«Манер есть кокетка»
В Риме, изучая кисть великих художников, копируя, по заказу русского посольства, многофигурную композицию Рафаэля «Афинская школа», Брюллов начал понимать, что нужно «все найти в себе самом». Он не хотел видеть мир глазами других, и раз за разом убеждался в «ненужности манера». «Манер есть кокетка или почти то же», — писал он брату.
С академическими сюжетами, работами в духе классицизма, на которые рассчитывали кураторы из Общества поощрения художеств, Брюллов быстро распрощался, а в поисках собственной темы обратился к жанровой живописи. В 1823 году он приступил к «Итальянскому утру»: молодая итальянка умывается под струями фонтана, освещенного зыбкими бликами солнца. Полотно, писанное мелкими кисточками, тщательно отделано. Восхищенный император Николай I приобрел произведение в подарок супруге Александре Федоровне, в чьих покоях висело «Итальянское утро». Впоследствии картина, образец итальянского жанра в русском искусстве, долгие годы считалась утраченной, будучи известной лишь по воспроизведенной копии. Однако Людмила Маркина, заведующая отделом живописи XVIII — первой половины XIX века, доктор искусствоведения, профессор и куратор московской выставки, обнаружила картину в Кунстхалле немецкого города Киль в 1998 году.
Увы, на нынешней выставке этой работы нет, зато есть парный к ней «Итальянский полдень», заказанный художнику Николаем I. Жизнерадостная девушка с корзинкой, снимающая сочный виноград, нередко критиковалась современниками: модель де «была более приятных, нежели изящных соразмерностей».


Брюллов ответил в свое оправдание: «Причиной моей погрешности было желание отличить сию картину и самим отличием форм от первой картины, представляющей подобный же предмет…», хотя в целом внимание на замечания обращал не сильно, а свою подпись и вовсе оставил прямо в прельстительном декольте тонкой рубашки, спадающей с плеч героини. Завершивший бы серию «Итальянский вечер», героиней которого предполагалась молодая особа с фонарем в руках, впрочем, не воспоследовал. Триптиха не получилось. В привычке у обладавшего пламенным творческим темпераментом Брюллова не было завершать замыслы. Мастер всегда параллельно вел сразу несколько работ и даже однажды признался: «Для меня скучен процесс писания красками».
Этому свойству характера Карла Брюллова на выставке в Третьяковке посвятили целый раздел, «Мастер неоконченной картины». Ярчайший пример подобной недописанности — «Автопортрет в лодке» («Портрет автора и баронессы Екатерины Николаевны Меллер-Закомельской с девочкой в лодке») из Русского музея. Художник, вложив все силы в изображение моделей, забросил работу, едва набросав собственный портрет.

Выставка «Карл Брюллов. Рим — Москва — Петербург». «Автопортрет в лодке» («Портрет автора и баронессы Екатерины Николаевны Меллер-Закомельской с девочкой в лодке»), 1830-е
«Нельзя пройти сии развалины»
Брюллов был счастливчиком, каких среди художников немного: признание к нему пришло при жизни.
В 1827 году, оказавшись в Неаполе, куда он отправился вслед за своей возлюбленной и музой, графиней Юлией Самойловой, Карл Брюллов увидел древнеримский город Помпеи. Бродил по раскопкам, и в голове «блеснула мысль» о создании картины, посвященной катастрофе извержения Везувия в 79 г. н.э.
«Нельзя пройти сии развалины, не почувствовав в себе какого-то совершенно нового чувства, заставляющего все забыть, кроме ужасного происшествия с сим городом», — писал он. Старший брат Брюллова Александр еще в 1825 году побывал у подножия курящегося Везувия и сделал обмеры помпейских терм. Раскопки в древних Помпеях начались в 1748 году, хотя исследователи не сразу сообразили, что именно копают. Испанский военный инженер Рокко Хоакин де Алькубьерре, начальник экспедиции, не особенно смыслил в древней истории. Но местные жители в окрестностях грозного вулкана постоянно обнаруживали предметы, явно относящиеся к античным временам, то амфоры для вина, то глиняную посуду.
Открытие Помпеи стало сенсацией. Ей посвящались романы и оперы, например, опера «Последний день Помпеи» Джованни Пачини. К слову, дочерей обедневшего композитора Амацилию и Джованину, удочеренных Юлией Самойловой, Брюллов будет писать не раз. Он давно мечтал о большом полотне, где можно было бы продемонстрировать все свое умение и со свойственной свободой самовыражения позволить себе соединение черт классицизма и романтизма.
Первоначально заказчицей произведения была кавалерственная дама, графиня Мария Григорьевна Разумовская, позднее уступившая заказ Анатолию Николаевичу Демидову. Меценат и сын русского посла во Флоренции гонорар оплатил, а Брюллова не торопил. И тот работал над картиной в своем ритме, около шести лет. Многофигурная композиция размером 456,5×651 см была им составлена из нескольких эпизодов, происходящих у подножия гробницы, места упокоения Авла Умбриция Скавра Младшего.
Не забыл Брюллов и об автопортрете. Изобразил себя в виде убегающего от стихии кудрявого живописца, с коробкой красок над головой. Кстати, по интенсивности разрушений, изображенных на этом полотне, сейсмологи потом присвоили землетрясению восемь баллов.



Навестивший Брюллова Вальтер Скотт, целое утро просидев перед неоконченной работой, изрек: «Я ожидал увидеть исторический роман. Но вы создали много больше. Это эпопея». Творению русского художника отдали должное. На Парижском салоне 1834 года «Последний день Помпеи» получил большую золотую медаль. Демидов подарил картину императору Николаю I. До 1897 года работа хранилась в Эрмитаже, потом ее передали в Русский музей императора Александра III. В отличие от петербургской выставки, где полотно «Последний день Помпеи» занимало главенствующую позицию, в Москве центральным экспонатом оно не стало. Эту роль, как представляется, кураторы отвели «Всаднице» (1832), бесспорной гордости Третьяковской галереи.
Работу Брюллову заказала графиня Юлия Самойлова (в письмах она нежно называла художника Бришкой), аристократка, наследница несметного состояния графа Джулио (Юлия Помпеевича) Литты, второго мужа ее бабушки. Самойлова жила широко, часто покупала недвижимость в Италии — виллу в Ломбардии, палаццо на озере Комо и в Милане. Здесь в миланском дворце Брюллову и позировали трогательная маленькая Амацилия на балконе и невозмутимая Джованина Пачини на вороном коне. Образец эффектного парадного портрета с элементами семейной сцены, как писали газеты того времени, «заставляет вспомнить прекрасные произведения Ван Дейка и Рубенса».

Выставка «Карл Брюллов. Рим — Москва — Петербург»
«Удержать лучшее лица»
В мае 1835 года Карл Брюллов по приглашению графа Орлова-Давыдова отправился в научную экспедицию на Ионические острова, в Грецию и Малую Азию, делал зарисовки видов, архитектурных сооружений, иллюстрации для путевых заметок графа, жил в Афинах и Константинополе.
Чудесные сепии «Гавань в Константинополе» и «Раненный грек, упавший с лошади» украшают секцию рисунков на выставке и демонстрируют, каким блестящим рисовальщиком был Брюллов.


В конце года художник получил предписание вернуться в Петербург, где его ждала должность профессора Академии художеств. По дороге через Одессу Брюллов после мягкого климата и райской атмосферы оказался в заснеженной Москве. Художник пришел к Тропинину на Волхонку, в мастерскую скульптора Ивана Витали на Чистопрудном бульваре. Пока медлительный ваятель работал над гипсовым бюстом Брюллова, тот успел написать его живописный портрет.

Выставка «Карл Брюллов. Рим — Москва — Петербург». Портрет скульптора И.П. Витали, 1836–1837. По бокам — бюсты Пушкина и Брюллова работы Витали
Здесь же в мае 1836 года произошло знакомство художника с Пушкиным. Брюллов «едет в Петербург скрепя сердце: боится климата и неволи», — сообщил жене поэт, хорошо знающий обстановку в столице.
Автора «Последнего дня Помпеи» в Петербурге встретили как триумфатора и национального героя. Выделили мастерскую на Литейном проспекте, определили учеников, один из которых, Аполлон Мокрицкий, воскликнул (и это могли бы повторить и остальные): «Великий боже, за что послал ты мне такое счастье?»
Для получения чина старшего профессора Академии Брюллову надлежало написать программную картину. Николай I, посетивший мастерскую, предложил «Взятие Казани» с Иваном Грозным на переднем плане. Брюллов, который был не в восторге от русской истории, выбрал «Осаду Пскова польским королем Стефаном Баторием в 1581 году». Написал большой эскиз маслом, приступил к работе над холстом и, разумеется, ее не завершил. Было бы странно, если бы в столице знаменитый художник не был завален заказами портретов, камерных и парадных, двойных и парных, костюмированных и портретов-прогулок.


«Удержать лучшее лица и облагородить его — вот настоящее дело портретиста», — так описывал Брюллов свой метод.
Московская выставка представляет целые галереи портретов. В полумраке зала висят они на черном профнастиле, имитирующем каннелированные пилястры (дизайн Варвара Семенова, dk-community): Аврора Карловна Демидова, писатель Струговщиков, сестры Шишмаревы, поэт Нестор Кукольник, дети Волконские с арапом, князь Михаил Оболенский, княгиня Салтыкова, графиня Юлия Самойлова, удаляющаяся с бала с приемной дочерью Амацилией Пачини, и другие.







Брюллов не выполнил ни одного императорского портрета, зато был большой мастак по части едких карикатур, которые многим насолили, в том числе художнику Иосифу Габерцеттелю, цензору Василию Семенову, чиновнику Министерства имуществ Николаю Немировичу-Данченко, архитектору Андрею Болотову. Художник шаржировал и сам себя. Близко знающие его люди утверждали, что маэстро был маленького роста, с выдающимся животом, атлетическим торсом на очень коротких ножках.
В 1843 году художник подписал контракт на роспись плафона центральной главы Исаакиевского собора на сюжет «Богоматерь во славе в окружении святых», а также создание четырех эпизодов Страстей Христовых. Эскизы Брюллов выполнил, даже приступил к росписи. Но тяжелые условия работы на большой высоте со сквозняками фатально подорвали его и без того слабое здоровье. В 1849 году художник получил отпуск и вновь отправился в любимый Рим, остановившись по пути на острове Мадейра.





В экспозицию включен редкий в творчестве Брюллова безлюдный пейзаж «Вид форта Пику на острове Мадейра», обнаруженный сотрудниками Третьяковки в Португалии и в 2003 году вошедший в фонды музея.
Окончив великолепный во всех отношениях портрет своего друга и давнего знакомого профессора археологии Микеланджело Ланчи, Карл Брюллов скончался в благословенной, столь любимой им Италии, в местечке Манциана близ Рима.
«Закатные» работы мастера, сделанные в его последний год, говорят о рождении нового Брюллова. Всякую минуту, лишь только отпускала болезнь, он бродил по берегу моря, рисовал с натуры. Это был совершенно иной взгляд художника, с которого словно спали оковы, художника, увидевшего мир без придуманных за него формул красоты, осознавшего, что можно, наконец, свободно творить. И это дает почувствовать выставка в Третьяковской галерее, исследующая траекторию непростой судьбы Брюллова.