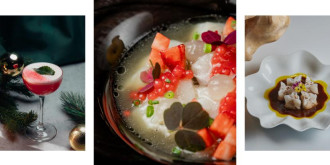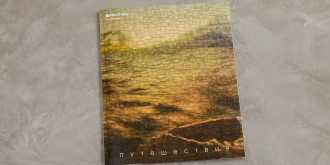«Можем себе позволить». Колонка Гузель Яхиной о советском вчера и сегодня

Кому сегодня нужен роман о событиях столетней давности? Этот вопрос нередко задают читатели. И сама себе его постоянно задаю. Только что вышел мой новый роман — «Эшелон на Самарканд» — о голоде в Поволжье 1920-х годов, и хочется попробовать ответить-таки на вопрос.
Многие века преимущественное большинство сначала российского, а затем и советского общества находилось по отношению к собственной истории в позиции наблюдателя — чаще согласного, реже не согласного с происходящим, но всего лишь наблюдателя. Это положение дел приобрело драматический характер после 1917 года.
Мы смотрели на юный тогда еще советский мир с восторгом и трепетом — в 1920-х. Позже взирали со страхом и безысходностью — в 1930-х. С отчаянием защищали его в 1940-х (и это был единственный период не наблюдения, но активной борьбы). После вновь цепенели от страха, долго. Смотрели уже с горькой усмешкой — в 1970-е, потому что ничего другого не оставалось. С гневом и отвращением ворошили развалины коммунистической идеи в 1980-е и 1990-е. Тогда казалось — насмотрелись на советское до тошноты. Казалось — ничего не остается, кроме как отвернуться и пойти вперед. И мы попробовали сделать это в 2000-е. А в 2010-е обнаружили себя опять зачарованно взирающими на ренессанс сталинских настроений.
Хватит уже смотреть — хватит быть наблюдателями истории своей страны и собственной жизни. Советское — это не объект, это субъект: оно живет в нас и управляет нами, как бы мы ни хотели это отрицать. В отношениях с советским прошлым объекты — мы. До тех пор, пока не осознаем это.
Осознать — нелегко. Есть многовековая, многопоколенческая привычка жить в объятиях государства. Государство в России, особенно в коммунистическую эру, — главный фактор семейной истории. Третий родитель, наравне с отцом и матерью. Семейная история каждого жителя Советского Союза лепилась государством: людей ссылали, переселяли, отправляли на коммунистические стройки, депортировали, сажали в лагеря, посылали на войну, приглашали на строительства городов, отправляли через полстраны по распределению и на армейскую службу — семьи начинались и распадались благодаря этим мощным, организованным «сверху» потокам. Каждый (или почти каждый) переезд был не выражением частной воли человека, вдруг решившегося на перемену участи, а проявлением государственной воли. О перемене участи не то что не мечтали — об этом даже не помышляли.
Хватит уже смотреть — хватит быть наблюдателями истории своей страны и собственной жизни.
«Сверху» же на безграмотное в массе население дореволюционной России были спущены и иные дары. Всеобщая грамотность и образование. Изобретение письменности для народных языков, ее не имевших. Культурная революция. Мощные вливания великой русской культуры в национальные культуры; как следствие — развитие национальной литературы, изобразительного искусства, кинематографа в тех республиках, где эти виды искусства исторически не существовали. Легитимация абортов (мы сделали это первыми в мире) и равные права для мужчин и женщин (мы сделали это одними из первых в мире); как следствие — женская эмансипация, особенно заметная в восточных регионах СССР… Все, что в западном мире шло «снизу», развивалось изнутри общества и порой отстаивалось в боях с государством, советский человек получил «сверху». От родителя.
И надо признать, это были бесценные дары. Декларация социального равенства (пусть она со временем и превратилась просто в декларацию) делала возможными и даже вполне обычными браки между людьми любых социальных страт: бывший беспризорник женился на профессорской дочери, а председатель горкома — на уборщице. Идеология национального братства поощряла межэтнические браки (приведу лишь один пример: в 1989 году в Махачкале доля межэтнических браков между русскими и коренным населением составляла 29%. Можно ли такое представить сегодня?). Бесплатная медицина и широчайшая сеть медучреждений работали на повышение рождаемости. Все эти дары — такие же мощные факторы семейных историй в нашей стране, как и насильственная миграция.
Дурное и светлое, патриархальное и прогрессивное, антигуманное и в высшей степени человеческое валилось на голову советского гражданина из рога изобилия, сжимаемого железной рукой государства. Эта же рука направляла и самые мелкие повороты частной жизни: в какой квартире или избе жить, где отдыхать, что говорить на партсобрании, какие продукты брать в магазине и какую книгу — в библиотеке. Привычка держаться за железную руку формировалась с рождения, а значит, прорастала глубоко в подсознательное. И если от родителей повзрослевшему юноше можно было вполне законно отделиться — уехать в другой город учиться или работать по распределению, — то способа отлепиться от железной руки и выскользнуть из объятий государства не было. Оставалось только смотреть — на происходящее вокруг и с самим собой — с той гаммой эмоций, которая соответствовала историческому периоду: то с восторгом, то с испугом, то с усмешкой безысходности.
Мне очень повезло родиться на сломе эпохи, в 1977 году. Мыслящим уже подростком я застала Советский Союз, была убежденной пионеркой и председателем совета дружины в школе, поэтому рассуждаю о советском мире с чувством причастности. С амбивалентным чувством. Этот мир, полный мифов и готовых смыслов, легко может стать ностальгическим раем — для желающих грезить (их сегодня предостаточно). Этот мир может показаться и адом — для тех, кто умеет критически мыслить и владеет фактами.
Думаю, сегодня мы вполне можем позволить себе признать эту амбивалентность. Нет нужды сохранять зачарованность — ни во взгляде на наше прошлое, ни во взгляде на нас самих и наши взаимоотношения с государством. Пройдя через гнев и отвержение собственного прошлого сразу после развала Советского Союза, а затем через ностальгию по сталинским временам совсем недавно (и даже еще теперь), мы уже можем дать маятнику успокоиться — и дать успокоиться своим эмоциям.
Нет нужды сохранять зачарованность — ни во взгляде на наше прошлое, ни во взгляде на нас самих и наши взаимоотношения с государством.
Мы — как общество, а не только малая его часть — уже можем позволить себе назвать чудовищное — чудовищным (к примеру, массовый голод 1920-х). Преступления — преступлениями (к примеру, Большой террор или депортации народов). Преступника — преступником (к примеру, Иосифа Сталина или Генриха Ягоду). Мы можем позволить себе сделать это и на уровне обсуждения, и на уровне действий: от разворачивания общественных инициатив (которых немного, но есть) и до принятия соответствующих законов (которые в ближайшем времени не появятся, увы, но необходимость в которых назрела).
Мы также уже можем позволить себе признать, что советская эпоха дала нашему обществу колоссальные прогрессивные толчки. Эти толчки были инициированы государством, их плодами мы пользуемся теперь. Наше вполне секулярное и урбанистическое общество сегодня — результат всеобщего образования и просвещения в советскую эпоху, борьбы с религией и насажденного тогда научного взгляда на мир. Вполне состоявшаяся женская эмансипация — результат идеологии всеобщего равенства (хотя и усугубленный миллионами мужских смертей в боях Гражданской, в ГУЛАГе и во время Второй мировой).
«Можем себе позволить» означает способность подойти к вопросу без оголтелости и остервенения (в какую бы сторону оно ни было направлено): не петь оду тирании; не посыпать голову пеплом и не разбивать лоб в покаянной молитве; не мазать огульно черным и не мазать белым; не талдычить о примирении всех со всеми, закрывая глаза на ужасное. А для начала просто назвать это ужасное — ужасным. Не отрицать свой анамнез. Но и прекрасному в этой памяти — позволить быть.
Кто будет называть? Историческое сообщество, художники, журналисты — предлагать. Общество — выносить вердикт через обсуждение. Сегодня это звучит как утопия, оторванное от реальности прекраснодушие. Кто знает, как зазвучит послезавтра? Тем более, что потребность в общественном диалоге о прошлом — огромная. Он необходим, как воздух. Так долго советскому человеку не давали говорить о перенесенных трагедиях — о раскулачивании, о массовом голоде, о депортациях и ссылках — что одного только «дискуссионного» десятилетия 1990-х — недостаточно. Семейные истории, полные умолчания, затаенной боли и невыплаканного горя, эхом передаются по поколениям и до сих пор корежат людей.
Не ангажированный разговор о прошлом превратит нас в субъектов собственной исторической памяти: советский миф — вытащенный из закоулков сознания на свет, беспристрастно изученный со всех сторон и названный честными словами — потеряет волшебную власть. Советское перестанет нами управлять.
Одного только «дискуссионного» десятилетия 1990-х недостаточно.
Продолжать же дальше цепляться за советские и пост-советские мифы, бесконечно убаюкивая себя «старыми песнями о главном», значит отрицать собственное взросление. А российское общество повзрослело за последние три десятилетия — хотя бы потому, что 30 лет назад в стране был введен институт частной собственности (оставим в стороне вопрос о его качестве) и российский гражданин стал худо-бедно учиться жить самостоятельно, без ежеминутной опоры на железную руку.
У меня есть потребность любить родину — это естественная потребность каждого человеческого существа с нормальной психикой, наравне с потребностью в материнском приятии и потребностью в гармонии мира. Есть потребность передать эту любовь своему ребенку. Есть желание, чтобы этому ребенку нравилось жить в России — и сейчас, и через полвека. Думаю, у очень многих есть подобные потребности и желания.
До тех пор, пока советские и пост-советские мифы покрывают наше прошлое гигантской непрозрачной тенью, эти потребности и желания фрустрируются. Потому что любовь для мыслящего человека — это не только летучая эмоция, но и знание. Любовь основывается на открытости и честности — только так. А в тени, где есть место умолчанию и стыдным тайнам, всегда плесенью прорастут ложь и манипуляции.
Признание собственных ошибок — признак силы. Государство, готовое пролить свет на темные стороны своего прошлого, заслуживает уважения. Как и общество, готовое открыто эти темные стороны обсуждать.
Честные романы о советском времени сегодня необходимы — чтобы выдавить из нас советское, пусть и по капле, и окончательно оставить позади.