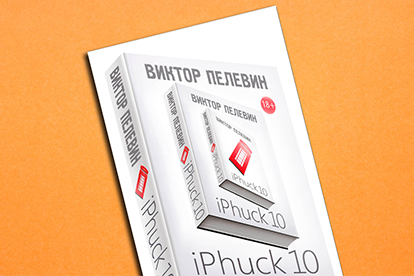«Патриот»: отрывок из «самого яркого романа года»

Из шести финалистов яснополянское жюри выбрало роман наиболее современный. Его герой, Сергей Знаев — абсолютный человек эпохи, представитель того зрелого поколения, которое проживало новейшую историю в режиме реального времени. Знаев взрослел в восьмидесятые, начинал заниматься бизнесом в девяностые, пытался вписаться в новое общество потребления в нулевые, то преуспевая, то проигрывая. К «Патриоту» предприимчивый невротик Знаев из рубановского же романа десятилетней давности «Готовься к войне» приходит владельцем патриотического супермаркета со спичками, тушенкой и гречкой под антикризисным брендом «Готовься к войне». В начале «Патриота» закрывать надо уже супермаркет — очередной проект Знаева терпит крах и требует немедленного принятия жестких управленческих решений.

«Допустим, неважно, — перебил Знаев в свою очередь. — Но я обязан обрисовать картину… Я — бывший богатый человек… Сейчас — ничего нет, совсем. Была квартира, большая, хорошая, — выставил на продажу. Был загородный дом, тоже хороший, большой, — продал. Был коммерческий банк, очень хороший, замечательный, но на его месте теперь глубокая воронка… — Он облизнул губы. — Есть магазин еще, супермаркет, совсем прекрасный, но его скоро отберут за долги… Или отожмут… Ничего у меня нет. Честно. Вот вам крест святой».
Волна, взбаламутившая пену девяностых, постепенно схлынула и к концу нулевых окончательно отошла назад. Запутавшийся в личной жизни Знаев бежит от ответственности по оголившейся песчаной кромке, надеясь поймать новую волну и с упоением мечтая о другой жизни, наполненной и осмысленной. В Москве среди знакомых лиц ему неуютно — город безжалостно захлопывает двери, одну за другой, вынуждая принять неприятную правду — время изменилось и его законы изменились тоже. Последним прибежищем Знаева становится патриотизм и Донбасс как горячая пульсация настоящей жизни, без дураков. С пафосом патриотизма наперевес он рассчитывает оседлать гребень новой волны и вписаться в поворот эпохи. Но скептически настроенный автор не дает читателю и на секунду поверить, что патриотизм способен стать вакциной этого поколения, не умеющего созидать и нести ответственность. Герой Рубанова возьмет с собой только доску для серфинга и, вместо поезда на Донбасс, сядет в самолет до Лос-Анджелеса. Но неумолимый океан так же, как и океан времени, не терпит тех, кто выходит ловить волну, вооруженный одним лишь прожектерством и ложным пафосом.
Отрывок из романа «Патриот»:
Знаев отодвинулся на метр в сторону и попытался представить, что почувствует шестнадцатилетний мальчик, увидев большую кучу купюр, пахнущих грязью и потом.
— Младший — совсем ребенок, — сказал он. — Очень умный — и очень наивный. Либерал. Мечтает быть гражданином мира. Россию считает помойкой и страной рабов. Я дам ему деньги, он заплатит за учебу в университете города Утрехта — и я его больше не увижу. Доброе дело — сделаю, а родного сына — лишусь.
Уехать может любой. В этом нет поступка. Поступок в том, чтобы остаться
— Если он хочет эмигрировать, — сказала Гера, — ты его никак не переубедишь.
— Но и потакать не буду! — воскликнул Знаев. — В моей стране каждый, кто не испражняется в подъезде, на вес золота. Уехать может любой. В этом нет поступка. Поступок в том, чтобы остаться. Жить здесь. Преобразовывать именно этот конкретный кусок земной поверхности.
— Это трудно объяснить молодому человеку, — возразила Гера. — Молодой человек хочет наслаждаться жизнью. Секс, драгз, рок-н-ролл, вот это вот все.
— Может, отдать ему деньги с условием? Чтобы не уезжал?
— Если хочешь быть другом своему сыну — не ставь условий. Принимай его таким, какой он есть.
Знаев закончил пересчет. Пачки сложил в пирамидку. Встал, распрямив затекшую спину. Устыдился своего затрапезного вида, своих трусов, когда-то купленных задорого, а теперь застиранных и заношенных; поспешил натянуть брюки.
— Посмотри, — сказал он, кивнув на денежную пирамидку. — Это выглядит, как баснословное богатство. Как сто тыщ миллионов. У мальчика не выдержат нервы.
— Значит, — сказала Гера, — договаривайся с его мамой.
— Его мама — клиническая либеральная дурища. С такими людьми невозможно договориться. Они видят вокруг только плохое. Только грязь, несправедливость и хамство. Его мать считает, что Россия — навозная куча, а весь остальной мир цветет и благоухает.
— У нее есть все основания, чтоб так думать.
— Может, — спросил Знаев, — и ты так думаешь?
— Я никак не думаю, — спокойно ответила Гера. — Я художник. Я могу работать где угодно. В Барселоне, в Париже, в Стокгольме, в Новосибирске. Я живу здесь, потому что мне так удобней. Здесь я принадлежу к большой и древней культуре. Здесь мои корни. Здесь я — своя, здесь мне хорошо. Здесь я ничего не боюсь. Ни полиции, ни инфляции, ни хулиганов, ни политиканов. А теперь скажи, куда ты уезжаешь.
Знаев проглотил слюну.
Признаться было нелегко. Решиться — нетрудно; трудно объяснить.
— В один город, — сказал он. — На границе с Украиной.
Гера поставила чашку на стол. Знаев увидел ужас на ее лице.
— Ты собрался воевать? Он кивнул.
— Зачем?
— Низачем. Не могу объяснить.
Он вдруг заволновался, он действительно до конца не понимал, зачем, и хотел теперь проговорить, понять, разобраться вдвоем; облизнул губы.
— Москва меня не держит больше. Дети выросли, бизнесы накрылись. В Москве я каждый день бухаю, и мне мерещатся черти. Пора что-то менять.
— Но тебя сразу убьют, — сказала Гера, улыбнувшись виновато. — Ты слишком безрассудный. Ты придумал какую-то глупую авантюру. Ты должен немедленно отказаться от этой идеи, Сергей.
Она редко называла его по имени, и сейчас Знаев смешался.
— Ты воин, — возразил он. — Я думал, ты меня поймешь.
— Да, — ответила она. — Воин. И там, — она кивнула в сторону коридора, — моя позиция. Сражаюсь в том месте, где у меня получается. И ты должен делать так же. Найди себе дело и займись. Напиши новую книгу. Сними фильм. У тебя много идей, ты умный.
Знаев засмеялся.
— Книг я точно писать не буду, — сказал он. — Это тухлое дело.
— Бог с ними, с книгами. Открой мастерскую по ремонту самокатов. Все, что угодно. Только никакой войны. Скажи, тебя кто-то уговорил, или ты сам все придумал?
— Сам, — ответил Знаев. — В том-то и дело. И не придумал, а захотел. Это желание... Оно не из головы. И оно сильное. Мне не нравится, когда в мой народ стреляют.
— Есть повод, — сказала Гера, — вот и стреляют.
— Неважно, кто дал повод. Важно, кто кого застрелил.
— Раньше ты не говорил такого.
— Есть вещи, о которых не говорят. Их просто делают молча, и все. Я не хотел говорить даже тебе.
— Тогда почему сказал?
— Потому что между нами все должно быть честно. Никакого вранья. Никаких недомолвок. В этом все дело. Не лгать, не умалчивать. Даже в мелочах.
Гера опустила глаза и повторила:
— Откажись от поездки. Пожалуйста.
— Не могу, — сухо ответил Знаев. — Извини. Я уже решил. И даже обсудил с друзьями.
— И что сказали друзья?
— Что я идиот. Что мое место здесь.
— Почему же ты не послушаешь своих друзей?
— Потому что мир изменился. А друзья не хотят меняться. Они не чувствуют... Они думают, что все будет, как всегда... Что тут, в России, все стоит само собой, божьим попущением. А так не бывает. Ничто не стоит само собой. Все всегда опирается на людей. На тех, кто готов взять дубину и переломать кости любой сволочи.
— Ладно, — сказала Гера. — Я поняла. Уговаривать бесполезно. Когда ты уезжаешь?
— Скоро.
— Тебе помочь со сборами? Что-то постирать?
— Сам справлюсь, — сказал Знаев. — Но за заботу спасибо.
— Ничего не давай, — сказал Жаров, отмахивая пальцем, как бы подводя черту под вычислениями, под выстроенными в столбик циферками. — Ни копейки. Ни старшему, ни младшему. Все оставь себе. И магазин этот проклятый — продай. И деньги, если тебе их заплатят, что, кстати, не факт, — тоже оставь себе. И трать их на себя. И живи — ради себя. Это трудно, я тоже не сразу научился... К этому за день или за два дня — не придешь... Постепенно надо... Я научу... А про детей не думай. Дети — что? Наши дети — больше не дети. Понадобится помощь — сами придут...
Знаев молчал, крутил баранку. Ему не хотелось ни возражать, ни поддакивать. После того, как он понял, что его решение принято твердо и бесповоротно — желание говорить, сотрясать воздух пропало. С любимой женщиной, с маленькой художницей еще можно было что-то обсудить. Но с остальными — нет. Ни с кем. Даже с другом.
Друг оказался слишком массивен для арендованной малолитражки — едва оказавшись внутри, он в два мгновения заполнил салон табачно-коньячным духом, решительно отодвинул кресло назад до упора, и все равно не поместился весь, то локтем толкал-упирался, то коленом в борт ударял, то окно настежь открывал и выдвигал правое плечо в прохладное забортное пространство, и на его лице то и дело появлялось выражение возвышенного философского неудовольствия, как будто не автомобиль был ему тесен, а весь мир, вся наличная действительность не умела вместить его огромные колени и локти, его бочкообразную грудную клетку, его круглую крутую башку, его волю и страсть к жизни.
«Или, может быть, я ошибаюсь, — подумал Знаев. — Может, ему просто надоело возиться со мной, дураком, развлекать меня, таскать по GQ-вечеринкам».
— Это приходит с возрастом, — продолжал Жаров. — Я хоть и моложе тебя, а быстрей понял. Потому что у тебя... только без обид, да? — много всяких лишних тараканов в голове... Ты же — Знайка, человек-легенда... Умник... Херов интеллектуал... А я, Жора Жаров, — парень прямой... и, слава богу, не такой умный... Поэтому я сообразил раньше. Мы с тобой — взрослые существа. Мы создали империи! Мы тысячам людей дали работу! А если шире взглянуть — не работу, а надежду! На благополучие, на долгую счастливую жизнь, на высшую справедливость. У меня в конторе есть люди, которые сидят на одном месте по двадцать лет. Они женились, родили детей, купили квартиры, вырастили детей, отправили их учиться, купили квартиры детям... Они судьбы свои построили, благодаря мне, Жоре Жарову, балбесу и пьянице... Причем, заметь, Жора Жаров, твой покорный слуга — не полубог ни хрена, не Стив Джобс, и не Илон Маск, никаких понтов, никаких миллиардов... Простой парнишка со 2-й Тверской-Ямской... Понимаешь, к чему я клоню?
— Понимаю, — сказал Знаев. — Здесь — направо? Или прямо?
— Прямо! Все время прямо, пока не выберемся из города. Я же сказал, тридцатый километр, воинская часть. Ты хотел из автомата пострелять — там тебе будет автомат.
— Отлично, — сказал Знаев. — Закрой окно. Холодно.
— Терпи, — хрипло ответил грубый Жаров. — На улице плюс двадцать. Ты мерзнешь, потому что ты сегодня не жрал нормально. Не обедал и не ужинал. И полдня просидел за рулем. В этой коробчонке.
И Жаров снова толкнул локтем пластиковую обшивку; машина едва не развалилась на куски; Знаев улыбнулся.
— Ты, — бубнил Жаров, яростно расчесывая небритую шею, — нихера себя не уважаешь. А это вносит дисгармонию в единую картину мира. Ты создал банк, ты построил магазин, ты накормил людей и наделил смыслом их жизнь. Ты — большой человек, Сережа. Ты — исполин. Ты прошел долгий путь, и теперь должен заняться собой. Все ждут, что ты останешься исполином. Всемогущим монстром. Никто не хочет, чтоб ты помер, или заболел, или сошел с ума, или уехал воевать, или заторчал на психотропах. Все хотят, чтоб ты оставался таким, каков ты есть. Если ты сейчас продашь этот свой военный супермаркет, и купишь себе яхту, и на этой яхте отправишься вокруг света, с заходом на Северный и Южный полюса — тебя все поймут, и поздравят. Потому что если человек много работает — он должен много отдыхать. Если человек много делает для окружающего мира — он должен много делать и для себя самого. Это очень просто, это элементарно и очевидно. Это — закон равновесия! Ты — исполин, титаническое существо. Что ты ешь? Что ты пьешь? Что ты куришь? Как ты восстанавливаешься? Какой у тебя секс? Каковы твои развлечения? Этого никто не знает. Это знаешь только ты сам. Никто не полезет давать тебе советы. Никто тебя не упрекнет. Живи для себя, трать все на себя. Оставайся исполином, небожителем. Не разочаровывай людей, не лишай их веры. Вот этот парень, Григорий Молнин, хозяин «Ландыша», — он все правильно делает. На каких-то планерах летает, Антарктиду на снегоходах бороздит. А ты, небось, думаешь, что он — жлоб и говнюк. Ты думаешь, что миллиардеры должны на храмы жертвовать и библиотеки содержать за свой счет. Ничего подобного. Людям не нужны храмы и библиотеки. Нужны, конечно, — но не в первую очередь. Сначала людям нужна вера в исполинскую сущность человеческого рода. Пожертвовать на храм может любой упырь и душегуб. Из десяти храмов девять построены на деньги подлецов и гадов. Нахер эту ссаную парадигму. Она устарела. Исполин должен жить жизнью исполина. Вот к чему я тебя подвожу, брат мой Знайка. Понимаешь меня?
— Понимаю, — сказал Знаев. — Спасибо, брат. Ты во всем прав. Но я уже решил. Я уезжаю. Я нашел концы. Меня ждут. Помнишь песенку «Машины времени»?
И он, улыбаясь, пропел:
— Мне форму новую дадут! Научат бить из автомата! Когда по городу пройду — умрут от зависти ребята!
— Ага, — мрачно ответил Жаров. — Умрут. Ты давай прибавь ходу. Опоздаем — нас ждать не будут. Там военные люди, у них все строго.
— А вроде приехали уже, — сказал Знаев. — Тридцатый километр. Куда теперь?
— Вон, смотри, — сказал Жаров. — «УАЗик» стоит. Паркуйся. Тачку твою тут оставим. В гарнизон на гражданских машинах не пускают.