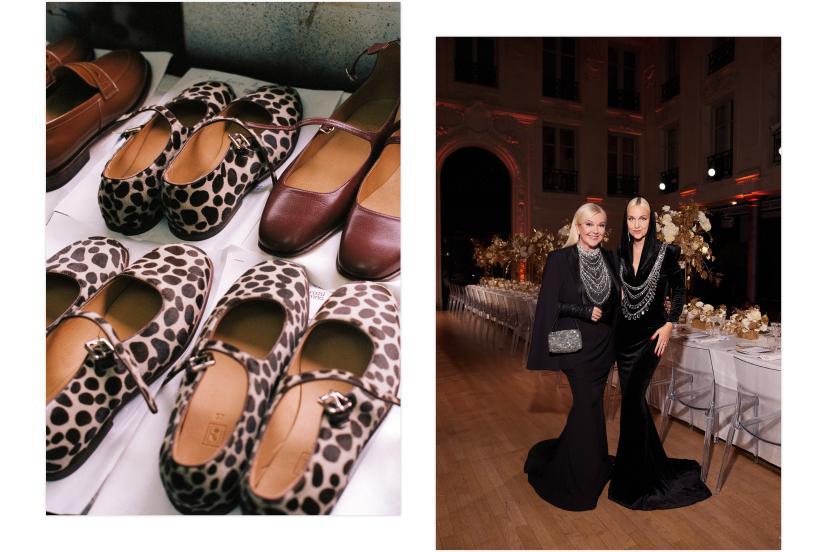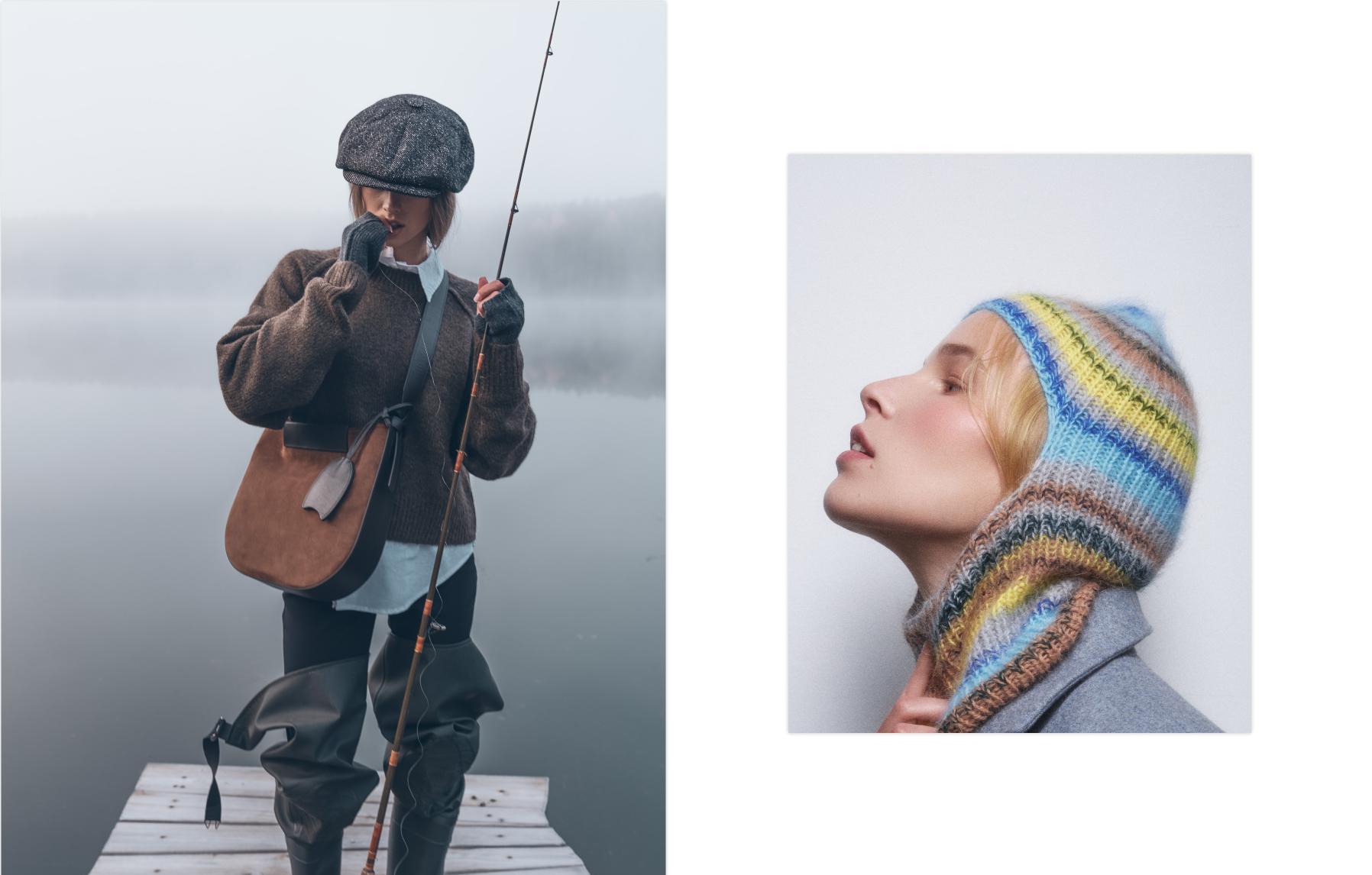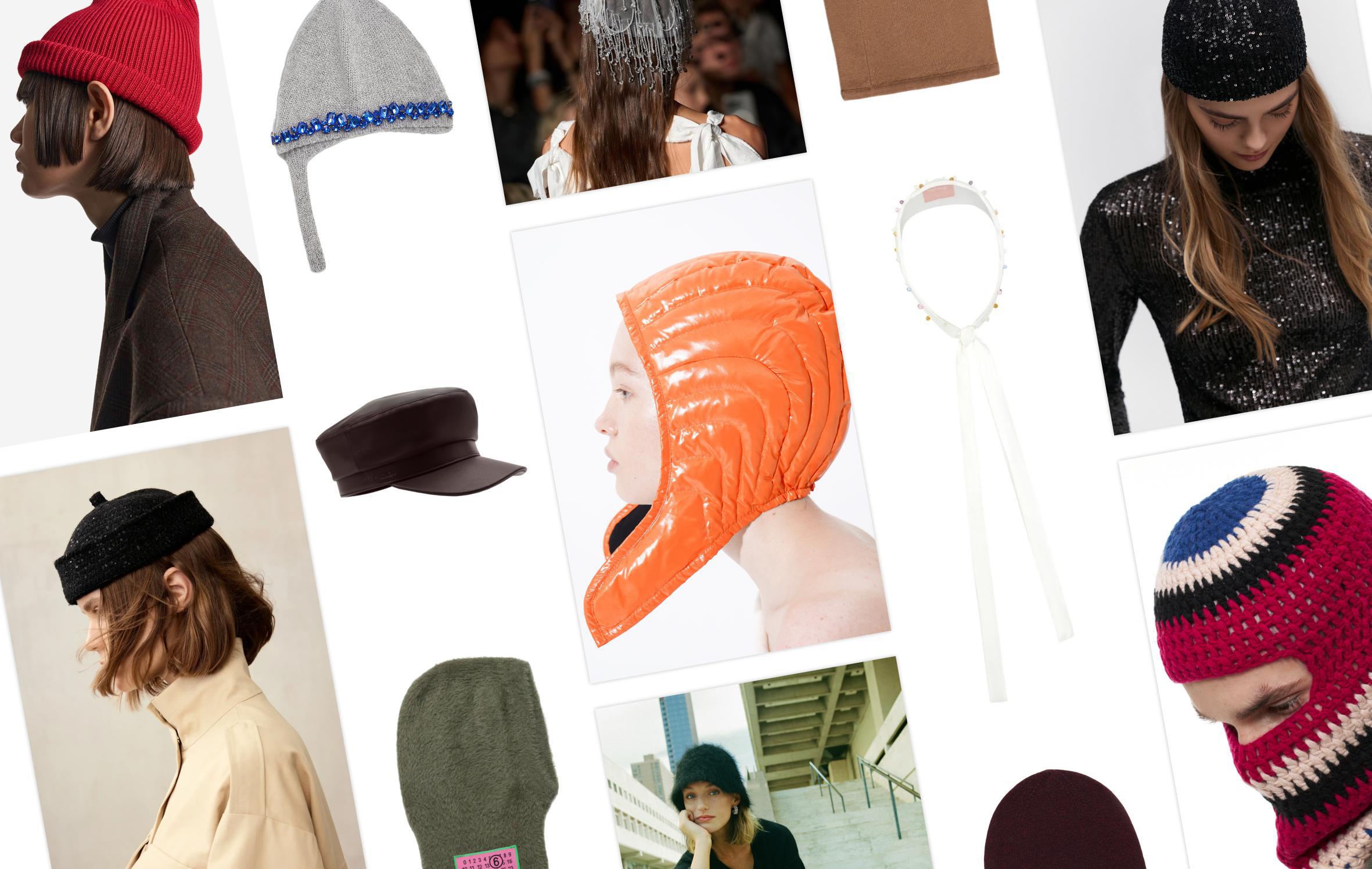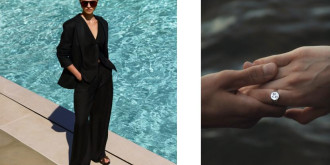Энигма из лампочки: почему нужно читать Роберто Боланьо

Несколько лет назад, гуляя по готическим кварталам Барселоны, я прошелся по знаменитому району Равал. Это центр местной арабской готики, где находится, например, дом с самым необычным граффити, что мне доводилось видеть. Решил зайти в Центр современной культуры Барселоны, располагающийся поблизости. В темном просторном зале музея проходила выставка, посвященная писателю, имя которого мне ни о чем не говорило. Собственно, не говорило со мной примерно все, ибо книги, письма, аннотации, буклеты были на каталонском языке. Не помню точных примет экспозиции, но сделана она была на высочайшем уровне. Чувствовался масштаб и продуманный кураторский подход. Но главное, во всем этом ощущалась атмосфера. Она казалась столь же энигматичной, как и слова, которых я не понимал. Я смотрел на фотографии писателя — его худое лицо в очках мне нравилось — и пытался представить, кем он был, о чем писал. Выставка была посвящена искусству слов, и парадокс заключался в том, что я воспринимал эти самые слова исключительно визуально. Я положился на внимательное разглядывание и воображение. Уже в Москве я решил прочитать книги этого писателя, чтобы убрать зазор между визуальным и словесным восприятием. Его произведения буквально вросли в меня и научили тому, что пристальное вглядывание — это и есть воображение.
Зовут писателя Роберто Боланьо. Многие его книги переведены на русский язык, но в нашей стране он практически неизвестен. Меж тем Сюзан Зонтаг считала его вместе с Зебальдом первым гением XXI века, а по мнению экспертов литературного журнала The Millions роман Боланьо «2666» стоит на четвертом месте в рейтинге лучших книг нашего века. В испаноязычном мире ему поклоняются, как идолу, в 2013 году чилийский режиссер Алисия Шерсон сняла фильм «Грядущее» по одному из его рассказов (картину показывали в Москве на кинофестивале 2morrow).
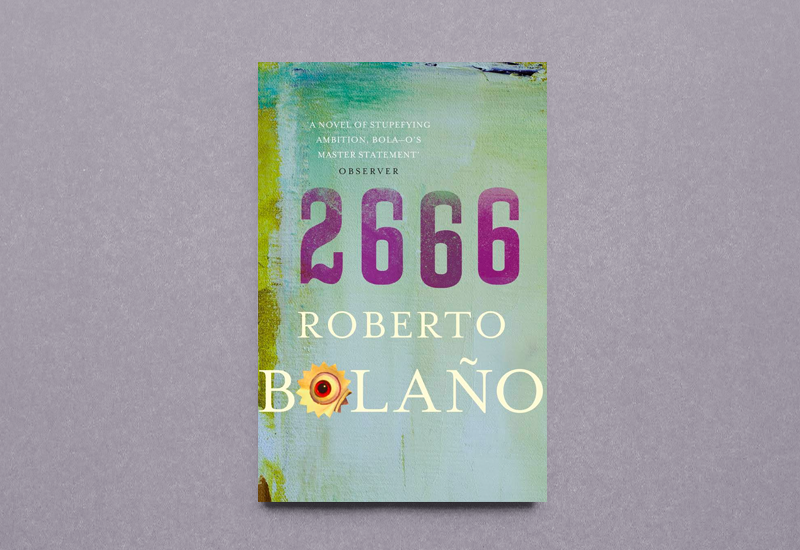
Боланьо родился в Чили, являлся активным участником социалистических реформ Альенде, но был арестован сторонниками режима Пиночета и восемь дней провел в заключении. Побывал в Мексике, а затем решил перебраться в Европу — он поселился рядом с Барселоной на побережье Коста-Брава, где и провел всю свою жизнь. Но главным городом для него была, конечно же, каталонская столица, во многом созвучная его прозе.
Первым романом Боланьо стал «Антверпен» (на русский перевода нет). Это жгучий микс из поэзии, прозы и фотографии — начинал чилиец, как и Кортасар, со стихов. В «Антверпен» я провалился, как в чужой сон, который тоже мне снился. Книгу даже не прочитываешь, а просматриваешь как череду вспышек, мгновенно озаряющих различные городские ландшафты и уличные сценки. Что-то вроде «Маргариток» Веры Хитиловой, только монтаж не такой бодрый, но столь же непредсказуемый. Кстати, город Антверпен в книге не появится ни разу. От Боланьо в принципе бессмысленно чего-либо ожидать — он кажется предсказуемым, но все ваши ожидания с легкостью обманет. Зебальд свой «Аустерлиц» начинал с долгого и подробного описания Антверпенского вокзала, а написал роман совершенно об ином, и зачем ему понадобился вокзал во всех подробностях, мало кто ответит. Боланьо заявил в названии об Антверпене, но в книге даже не вспомнил о нем.
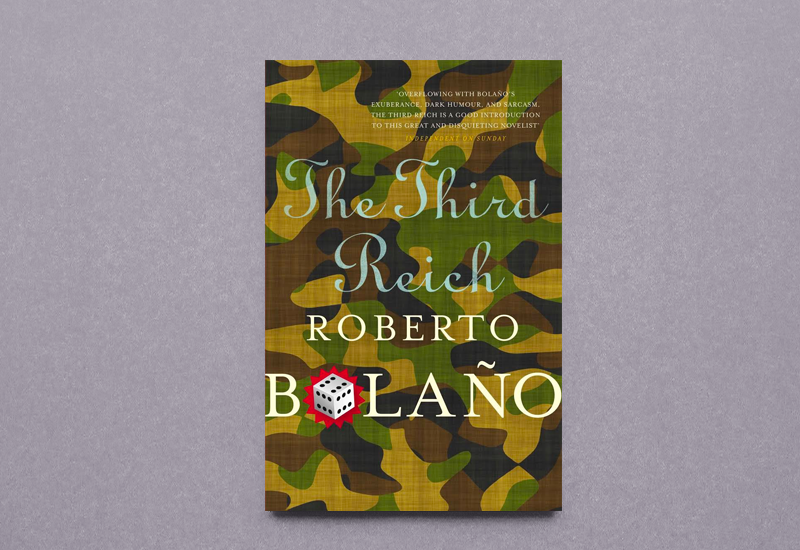
Проза чилийца — это транзитная зона между явью и сном, вымыслом и правдой, фикшном и нон-фикшном. То есть невозможно отличить одно от другого, или даже так: этого не стоит делать, нашептывает Боланьо. В своих больших романах автор занимается подробными описаниями, вглядывается в самые обычные предметы, но за этой обычностью всегда скрывается что-то еще. Он «взрывает» любую очевидность самим всматриванием в нее. Роман «Третий Рейх» — это вообще что-то вроде бомбы замедленного действия, которая так и не взрывается, но готова это сделать в любой момент. Автор накаляет атмосферу до предела, и ты ждешь, что сейчас грянет ураган, но никакого урагана не происходит; с новым абзацем волна напряжения отходит назад, чтобы через некоторое время вновь накатить на пустынный каталонский пляж. Вдруг ты понимаешь, что предметы, люди, ландшафт — это и есть тот самый ураган, готовый обрушиться в любой момент. Пляж, брошенная лодка, отель — все выглядит документально, повседневно, но за этой повседневностью всегда скрывается энигма. Помню, как буквально потели мои ладони от напряжения, когда я читал «Третий Рейх».
Ежедневно мы идем проторенными городскими маршрутами, головы забиты мыслями, и наше внимание если что и привлекает, то нечто неожиданное. У Боланьо все наоборот: привычный ландшафт — это приглашение к тому, чтобы обнаружить его необычность. Иногда я проделываю нехитрый эксперимент: медленно иду по дороге к метро, отключаю круговорот мыслей и всматриваюсь в то, что видел тысячу раз. Часто я нахожу что-то новое для себя, странное, притаившееся. Окно, вывеска, дом, человек на остановке — все вдруг переходит из разряда нон-фикшна в фикшн. Помните у Хармса «Рассматривал электрическую лампочку и остался ей доволен»? На манер Боланьо можно было бы сказать так: «Весь день рассматривал электрическую лампочку».
Книги Боланьо все сильнее врастали в меня, и я решил прочитать его opus magnum в тысячу страниц «2666». На русском языке книги нет, и я попросил друзей привезти мне эту книгу из Нью-Йорка. Приятель написал, что этот талмуд лежит у него дома (взял у кого-то почитать) и готов привезти мне его в качестве подарка. Этот эпизод — абсолютно в духе Боланьо. Когда мне привезли книгу, я начал ее читать и с удивлением обнаружил, что главным героем является несуществующий немецкий писатель по фамилии Арчимбольди (созвучной моему имени). И герои книги — так называемые арчимбольдисты — занимаются изучением друг друга и его творчества.

Иногда Боланьо пишет просто, телеграфно, так, будто он Хемингуэй, но Хемингуэй с гранатой — он подрывает текст внутри текста. И если чему-то и учит (морализм Хэма, думаю, был ему совсем не близок), то внимательному взгляду, пристальной оптике к окружающим вещам, которые кажутся привычными, а оказываются энигматичными.
Современный мир иссушен прозаичностью, насущностью. Все просчитано, продумано, пронумеровано, маршрутизировано. Лампочка есть лампочка. Но как нам однажды подсказала Гертруда Стайн, лампочка есть лампочка есть лампочка есть лампочка... Только если мы поменяем оптику, то сможем увидеть непривычное в привычном, в старательно уложенной плиткой яви разглядеть пелену тревожного сна. После прозы Боланьо я стараюсь как можно чаще на знакомых улицах попадать в темный зал музея, ничего не понимать и пристально вглядываться в окружающее. Получается далеко не всегда, но это создает ощущение того, что дневной робот внутри меня выключен, и я становлюсь на время ночным призраком. А как говорил Боланьо, именно для призраков он и написал «Антверпен».