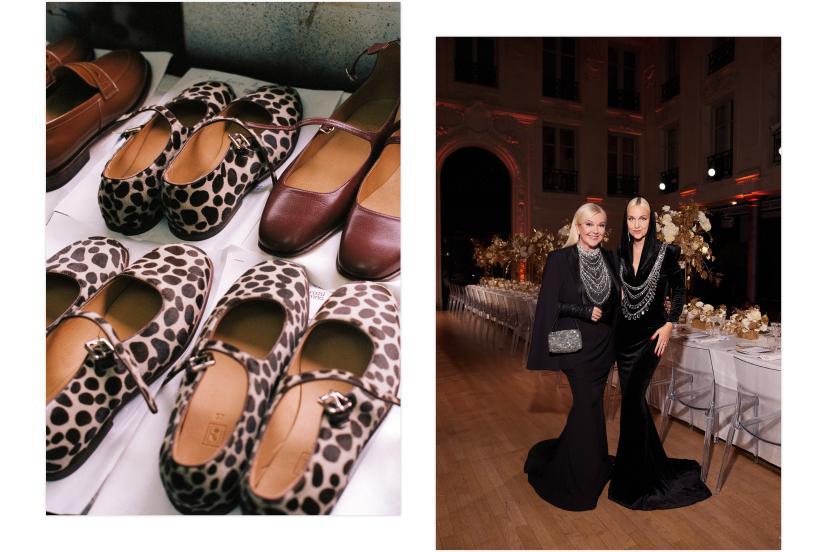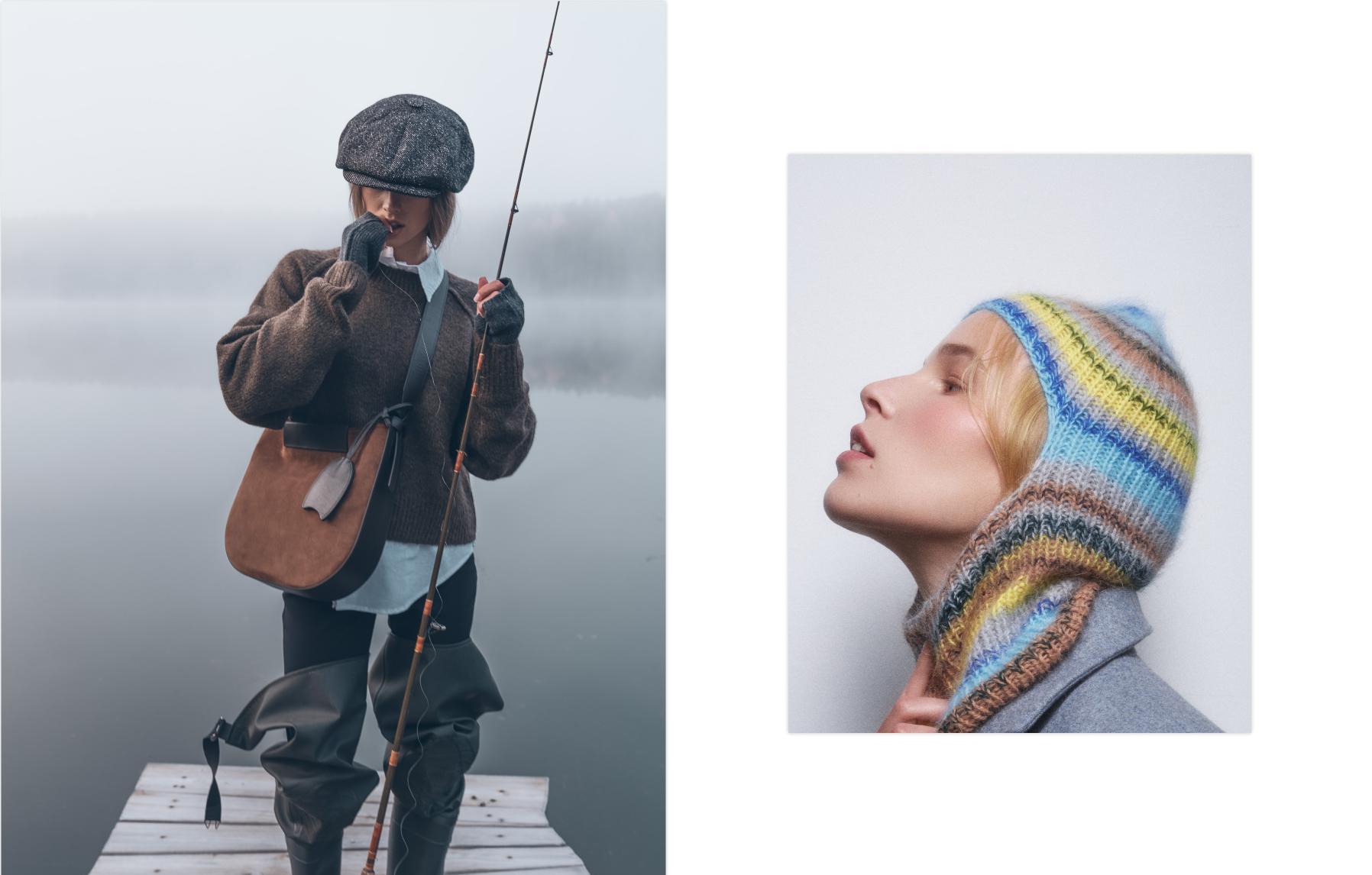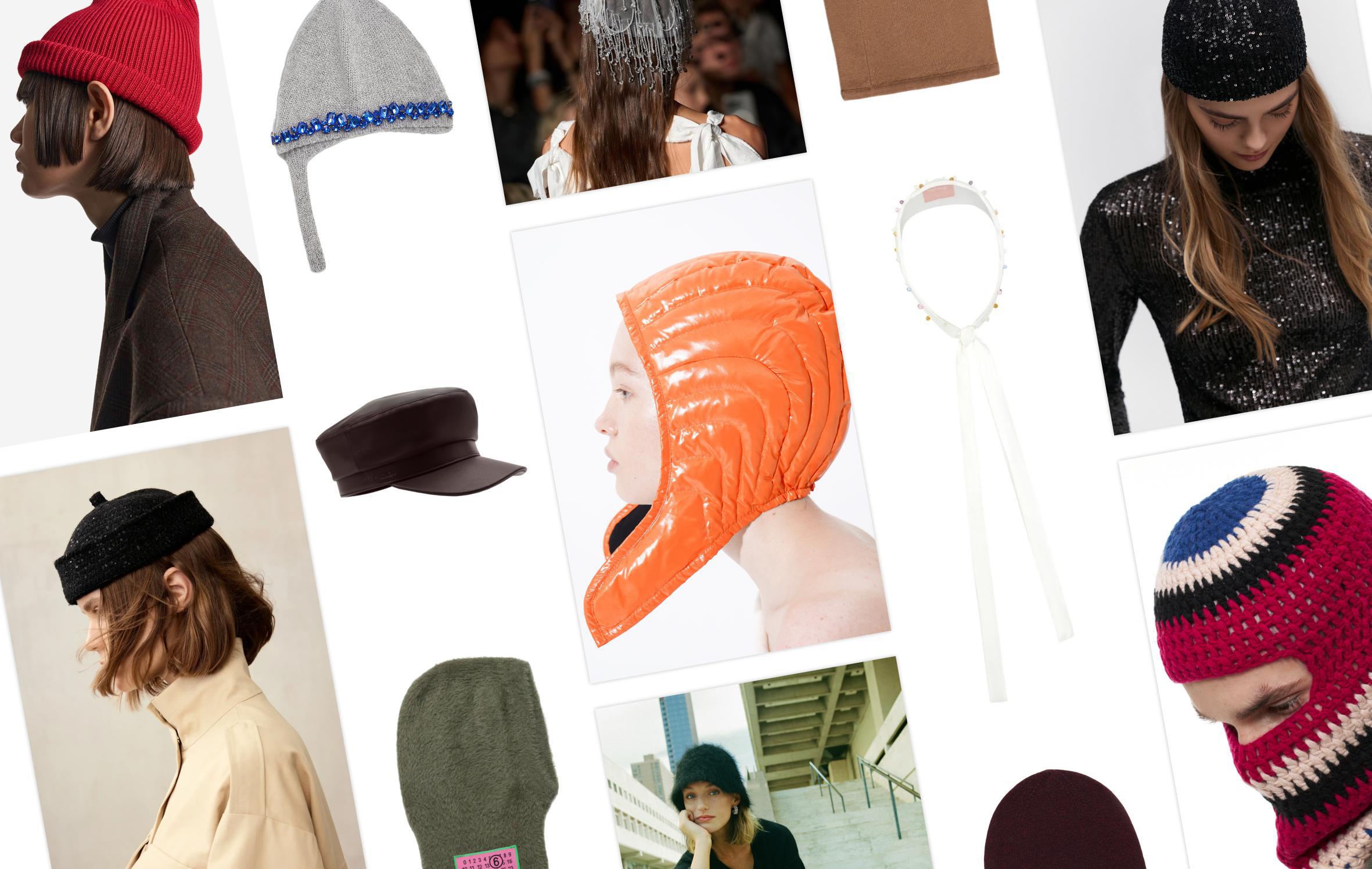Режиссер Савва Савельев — о чувстве дома по имени Кузя

Только что я выпустил спектакль «Петушки» в пространстве «Внутри». Пьеса, по которой он поставлен, — это рефлексия на 50-летие поэмы Венедикта Ерофеева «Москва — Петушки». Место действия — зал ожидания Курского вокзала, откуда лирический герой Ерофеева отправляется в свой железнодорожно-алкогольный трип. Но в «Петушках» никто никуда не едет. Все поезда отменены. Герои сидят и ждут. Ждут. Ждут. И внутри этого экзистенциального ожидания все они: актриса без возраста, врач, музыкант из котельной, вокзальный подросток, поэт — все находят себя друг в друге. Находят тепло, сочувствие, детство. Одним словом, спасение. Эта пьеса и этот спектакль, конечно, о Москве. О любимом городе, в котором такие разные и такие похожие люди хотят быть счастливыми, любимыми, понятыми. И конечно, это спектакль о дороге к свету. Пусть даже эта дорога пролегает через одиночество.
Когда я задумал эту пьесу, я поехал на Курский вокзал. Сел и смотрел на людей. На разных. Счастливых и не очень. Устремленных на платформу Серп и Молот, в Покров, Чухлинку и Леоново. В Орехово-Зуево. В Павловский Посад. На платформу 113-й километр. Во Фрязево, в конце концов. Одним словом, устремленных вперед. Я смотрел на них и думал, что чеховское «В Москву! В Москву!» здесь и сейчас не работает. Им всем надо из Москвы. И куда подальше. В никуда. В рай.
И тут я вспомнил, как 13 лет назад я подарил рай другому. 13 лет назад я вышел из поезда на этом самом Курском вокзале и пошел домой на Павелецкую по весеннему Садовому кольцу. Я помню, что меня переполняла любовь к миру, как бывает только в апреле, когда уже вот-вот — и лето. Воздух этот, запахи взбесившиеся, отражения в воде — все кричит о том, что вот она, новая жизнь, и наступит она через мгновение.
И она наступила.
Во дворах Замоскворечья.
Знаете дом, где снимали «Иван Васильевич меняет профессию»? Легендарный «пьяный дом» на Новокузнецкой. Пьяным он прозван за свою волнистую фасадную конструкцию. Именно тут Шурик бегал в магазин искать транзисторы, во дворе этого дома Бунша стирал со стены надпись «дурак», и на балкон этого дома Иван Грозный выходил с возгласом «Лепота!». Жил я тогда рядом, на улице Бахрушина, около Театрального музея, и после Курского вокзала по апрельской погоде мне хотелось вкусного. Я зашел на первый этаж «пьяного дома», где тогда был большой гастрономический магазин. Сыр, зелень, ветчина, вино — взял все.
А любовь к миру и отражения в воде не отпускали. И хотелось чуда. Внезапного. Ошеломительного. Весеннего. И оно свершилось.
Я шел с пакетами через двор «Ивана Васильевича». От мусорных баков и составленных рядом с ними старых рам к прогретым солнцем машинам бегали рыжие котята. «Какие хорошие!» — подумал я и двинул дальше. Я уже дошел до дома, когда весна накрыла меня целиком. И оформилось это чувство в простую формулу: мне нужен кот! И формула эта показалась мне такой простой и очевидной, такой воздушной и логичной, что я тут же от дома повернул назад к рамам и мусорным бакам. Я решил так: я брошу ветчину на асфальт— кто первый подбежит, того и возьму.
Кузя сидел между рам. Тогда ни я, ни он еще не знали, что он Кузя. Ветчина лежала на земле, но ни одного рыжего котенка видно не было. Кузя был в полоску, серый с белыми асимметричными пятнами. Он смотрел на меня. Я смотрел на него. «Какой некрасивый», — подумал я. Что подумал он, не знаю. Но на ветчину он не шел. Так я стоял пару минут. Набежали тучи. Ветер сдул весну и мой порыв. Я развернулся домой. И тут под ногами проскочил он. Кузя сел передо мной. Ветчина его не интересовала. Он смотрел на меня умным долгим взглядом. И все стало ясно. Я взял его на руки, и в эту же секунду на еду накинулись рыжие. «Пусть едят, — мяукнул Кузя. — Одиноким и ветчина в радость. А мы теперь вместе, понял?» Я понял. До дома он ни разу не рванул с рук.
Да, каждое утро в течение следующего года на кухне я находил разорванный мусорный пакет. Все содержимое было разбросано. Кузя довольно улыбался: «Ну а чего ты хотел? Ты забрал меня с помойки. Вот и получи!» Вот я и получал. И не только это. Царапины на все лицо — их я замазывал йодом. Тогда я работал на «Вечернем Урганте» и помню, что в день, когда в гостях у нас был Роберт Де Ниро, утром Кузя поставил мне очередную печать любви. Великий актер перед эфиром был скован или хотел таким казаться. Он был не очень разговорчив. А мне нужно было обсудить с ним интервью, показать ему студию. Конечно, он не сводил глаз с моего шрамированного лица. «Ну и рожа у тебя, Шарапов!» — напрашивалось само собой. Но великий актер не был бы великим, если бы так буквально отреагировал на это. «Знаете, — сказал он, — у меня тоже был кот. Я вас понимаю! Как его зовут?» О Кузе говорил Де Ниро! Кажется, история о коте растопила его сердце, и в кадр он вошел с улыбкой.
С Кузей мы пережили многое. Зимы и весны, смерть близких, переезды и ремонты. «Стабильность» — это слово десять лет для меня означало одно. Кузя спит между моих ног. Кузя улегся. Кузя проснулся и залез мне на грудь. Значит, стабильность. Но…
В день, когда в гостях у нас был Роберт Де Ниро, утром Кузя поставил мне очередную печать любви.
Однажды было лето. Было жарко. Окно на кухне я держал открытым. Вечером я зашел домой с работы. И Кузя не выбежал мне навстречу. Кузя не попросился на руки. Кузи не было. Полночи я обследовал весь район. Я жил тогда в доме у Павелецкого вокзала на втором этаже, и было очевидно, что кот запрыгнул на подоконник и перелетел его. Что дальше — тайна.
Кузи не было день, два, три, пять. Ну, нет кота. Все.
У Павелецкого тогда кипела стройка. Поиски результатов не дали.
Я плакал. Винил себя.
А через неделю ночью проснулся от крика. Я не сразу понял, что это. Птица, ребенок, звуки стройки? Нет. Под окном сидел Кузя. Он звал. Он терпеливо дождался, когда я проснусь и спущусь вниз, возьму его на руки, как в наш первый день. Когти его были стесаны, сам он был в пыли, но тогда — в первый и последний раз — Кузя лизнул мою руку. И мы были счастливы.
Не стало Кузи в московский локдаун. Мы проснулись утром. Он был между ног, как всегда. В окна било солнце. Звуки из двора — крыльцо обрабатывали люди в маскхалатах. Кузя запрыгнул на подоконник, поглядел на них, ушел под кровать и уснул навсегда.
Да, человек всегда приписывает животным свои смыслы, свои мотивации и контексты. Кузи не стало просто так. Не потому, что он «почувствовал, что в мире что-то не так», что «этот мир не для него» и прочее. Он пожил мало. Но он был любим, и надеюсь, ему было интересно и сыто. Его жизнь прошла между Курским и Павелецким вокзалами и была хорошей кошачьей жизнью.
Когда через неделю после того, как я его забрал с помойки, я вернулся в тот двор на Новокузнецкой, ко мне подошла женщина. «А это вы взяли нашего Де Ниро?» — спросила она. «Кого?» — уточнил я. «Де Ниро! Серого такого, в полосках и пятнах! Вы знаете, мы всем домом за него очень рады! Он же прибился к этим рыжим котятам и их маме, они его приняли. А когда собаки прибежали — он пошел на них всех защищать. Герой настоящий! Как Де Ниро! Берегите его!»
Я его берег. Он не берег мое лицо. Но берег меня каждую ночь и каждый день. И кажется, бережет до сих пор.
И вот я снова сижу на Курском вокзале и смотрю на людей, которые едут к своим любимым. К родным, друзьям, к дачам и гаражам. К важным и нужным людям и местам. Я смотрю на них и думаю о Кузе.
О трогательном усатом герое, который никогда не был в Петушках, но который отражен во всех котах и людях и там, и на всех континентах, и во всех часовых поясах. Как отражена во всех нас любовь. Как снова и снова отражается в нас дорога, вода, небо. Кузя вечен, вот мое мнение. И с этой уверенностью я вхожу в май. Да здравствуют вокзалы. Да здравствует весна. Навсегда!