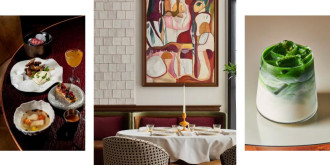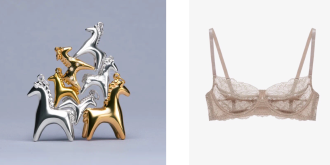Режиссер Савва Савельев — о поисках лица времени и работе с друзьями

Режиссер, актер, художник с целой чередой персональных выставок, художник-постановщик, журналист и креативный продюсер. Перед именем Саввы Савельева может следовать целая череда профессиональных определений. В каждом из этих своих проявлений он неизменно стремится добраться до самой сути. Контекст нашего разговора определен недавней премьерой московского «Гоголь-центра», где Савва Савельев поставил спектакль «Берегите ваши лица». Эта пьеса Андрея Вознесенского считалась утерянной, а до того прозвучать со сцены успела лишь три раза. Одноименный спектакль Юрия Любимова в театре на Таганке был снят после трех премьерных показов. В новой версии спектакля текст Вознесенского соединяется с либретто Савельева, а стихи поэта звучат еще и в музыке — в исполнении группы Shortparis, выпустившей по мотивам спектакля мини-альбом.
Среди героев вдруг появляется художник Владислав Мамышев-Монро, а среди умышленных цитат — чеховская «Чайка», еще больше увеличивая масштаб разговора о наших лицах, их поиске и времени, окружившем, а то и поглотившем героев пьесы, артистов, их зрителей, настоящих и будущих. «Сегодня не скажешь, а завтра уже не поправить», — пишет Андрей Вознесенский в своем «Плаче по двум нерожденным поэмам», а мы заводим разговор о словах, их ценности и цене, поэтике, поэзии и даче.
У спектакля «Берегите ваши лица» очень много лиц, так что просить назвать среди них главного героя странно. И все-таки в либретто, которое вы написали, появился совсем новый в контексте пьесы человек — это художник Владислав Мамышев-Монро, с которым вы были очень дружны. Как так вышло?
У разных зрителей, посмотревших спектакль, действительно разные абсолютно мнения по поводу того, кто же его герой. Одни говорят, что герой — это профессор. Другие, что это, собственно говоря, Мамышев. Третьи мне рассказывали, что следили за линией чиновника, и для них это кочующий образ. И мне очень радостно, что спектакль получился многогранным инструментом, в котором каждый в отражении видит что-то свое. Что касается того, как появился в нем Мамышев, у меня есть своя история дружбы и работы с Владом, и в принципе, то, чем я занимаюсь в театре, — это совмещение художественной и публицистической реальности, скажем так. В свое время я в Государственном Эрмитаже, в Петербурге, делал спектакль «Каравайчук», посвященный Олегу Николаевичу Каравайчуку, в основе был один день, который я провел с ним в Петербурге, а потом в Комарово, на Финском заливе. И в принципе, я себя ловлю на мысли, что, наверное, количество героев, с которыми я был лично знаком и жизнь которых можно переплавить в театральное действо, пока не иссякает.
В первом варианте работы над либретто к «Берегите ваши лица» я двигался совсем в другую сторону. А вот второй вариант превратился в спектакль. Я много раз перечитывал пьесу Вознесенского, надо было найти какой-то ключ, потому что это такая высокая поэзия 60-х годов, и, безусловно, моей задачей было донести смыслы, которые заложены там, до зрителя, который сидит здесь, а не в 1970 году, то есть надо с ним говорить на том языке, который будет ему понятен. И попавшийся мне на глаза каталог работ Влада Мамышева-Монро стал тем самым ключом. Потому что я расшифровал название «Берегите ваши лица» как обращение к одному человеку в уважительной форме. Как вот вы, Анастасия, берегите ваши лица. У каждого человека этих лиц довольно много, и за свою жизнь сколько мы этих лиц меняем, а Влад был человеком, который лица менял постоянно.

Получается, и Вознесенский, и Мамышев-Монро оба говорили об одном, но при помощи разных инструментов.
Это поиск лица, поиск лица времени, попытки ответить на вопрос, какое это лицо, чье оно. Влад это искал через собственное лицо, буквально перевоплощаясь в Любовь Орлову, в Достоевского, в Шаляпина, в Ленина, то есть в художественно-визуальной форме. Вознесенский исследовал этот вопрос через поэзию. И это, конечно, невероятно здорово, что все так соединилось, абсолютно разнесенные по разным десятилетиям люди и события. Мамышев родился в 1969 году, когда Вознесенский эту пьесу оформлял и писал, в 1970 году, в начале года, она была поставлена на Таганке. И мне нравится, что есть эта линия. Немногие замечают, но у нас в конце спектакля идет даже цитата из «Чайки» Чехова, когда герои выстраиваются в линейку и звучит в том числе фраза, что «я помню все, все, и каждую жизнь в себе самой я переживаю вновь». Это из монолога Нины Заречной, где, на самом деле, удивительным образом исследуется та же самая тема, что в ней, в Нине, все души слились в одну, и душа Наполеона, и душа Александра Великого. Это ли не то, что делал Мамышев на протяжении своей творческой карьеры? Это ли не то, о чем писал Вознесенский: «Как кинохронику просматриваю я леса, стада, толпы, как найти то самое лицо? Как не обмануться?» Это удивительно, что с каким-то шагом в полвека великие художники, драматурги, поэты занимаются исследованием одной и той же темы. Поэтому даже этот небольшой как бы по касательной след кометы Чехова, который в конце у нас проскакивает в спектакле, для меня очень важен, потому что все это складывает XX столетие. А начинается, кстати, спектакль в том числе стихами Вознесенского: «Столетье сдохло, а мгновенье длится. Я думаю — толпа иль единица? Я думаю, право ли большинство?» Это Shortparis поют. А потом Вениамин Борисович Смехов продолжает это строчками: «к финалу шел ХХ век, крестами ставни заколачивая». Удивительно, как все по смыслам собирается в одну такую густую вещь.

Вы выбрали героя, которого знали лично. В спектакле он реальный человек или все же художественный образ?
Среди зрителей были люди, которые после спектакля говорили: «Мы вообще не знаем, кто такой Влад Мамышев-Монро, но мы все поняли». Мне кажется, мы всегда подключаемся к герою, если видим в нем себя. Когда смотрим кино, когда читаем. И когда в художественном произведении речь идет о ком-то реально живущем, всегда происходит некое отделение человека от персонажа спектакля или героя фильма. Это уже образ, который начинает жить сам по себе. И при этом у нас есть вставка — киноблок, который сделан по воспоминаниям мамы Влада Нины Ивановны Мамышевой и прекрасной художницы, моего большого друга и ближайшей подруги Влада Ольги Тобрелутс. В некотором смысле это реконструкция событий. А все монологи, которые произносят Александр Горчилин, Иван Мулин и Настя Лебедева, — это одна статья Влада, она называется «Кто я? Где я? Куда я попал? Где мои вещи?», где он рассказывает свою собственную творческую биографию. Просто эта статья разбита на куски, из которых сложились монологи действующих лиц спектакля. Поэтому все в этом плане имеет не вымышленную основу, а вполне конкретную.
Вы очень часто работаете с друзьями. Они играют у вас, вы играете у них, дружеских сплетений самого разного толка и в театре, и в кино у вас действительно много. Вопрос простой, а тема сложная. Как работать с друзьями? Как не поссориться?
(Смеется.) Мне в этом плане повезло, потому что мои друзья — большие профессионалы, и это избавляет от необходимости объяснять, что работа и наши гуляния и выпивания какие-то — это две разные реальности. В свое время, когда я жил в Петербурге и работал в издательском доме, у меня были случаи, когда люди не понимали, что это разделяется, когда рабочие отношения вступали в конфликт с дружескими, начинались какие-то обиды, вот это все. Я это терпеть не могу. Для меня работа есть работа, а работе свойственны рабочие отношения. Самый прямой способ спасти дружбу — отсечь панибратство на рабочей площадке. Это экономит время, нервы, избавляет от каких-то неудобных ситуаций. И мне действительно повезло с этим нашим кругом друзей, с которым мы с 2008 года, на самом деле уже тоже большой промежуток времени. Мы можем здесь на репетиции разругаться в пух и прах, но вот она закончилась, мы вышли из театра — и все это осталось там, на работе. Это очень деликатная вещь, хрупкая граница, которую, если сломать и эти два поля сместятся, то будет конец всему — и рабочим отношениям, и дружеским.

А имеет ли значение то, что вы в контексте спектакля режиссер, то есть если сильно упрощать — вы самый главный?
Мы делаем общее дело. Я, например, не захожу к актерам за кулисы перед спектаклем, то есть это их уже мир, их дело, как они готовятся к спектаклю, как они выходят на сцену. Это пространство жизни и работы актера. Режиссер свою работу сделал. А перед спектаклем ходить по гримеркам и давать какие-то наставления — это не про меня. Люди должны собраться, они должны сделать свою работу хорошо, и в этом плане меня там нет, это уже другой мир и другие материи.
При этом русский театр (да и кино вместе с ним) знает примеры самых разных режиссерских подходов. Кто-то не против, чтобы его боялись, кто-то, наоборот, ищет партнерства и совета у артистов. Что ближе вам?
Я никогда не кричу. Есть среди режиссеров те, кто кричит на актеров, но это какой-то бред, я не понимаю, для чего это. И вот это: «Я здесь главный, я за все отвечаю...» Ну хорошо, приходит режиссер и говорит: «Я здесь главный, как я буду говорить, так вы и делайте». Что это означает? Сидит актер, и пока ему режиссер не скажет «встань», он не встанет? Пример смешной, но идея в том, что все это парализует творческую волю, а театр, кино — там нет места параличу творческой воли. Люди должны делать свою работу с удовольствием. В случае с нашим спектаклем нужно иметь в виду еще то, что материал был очень подвижным. Это не пьеса Чехова, либретто я писал сам. Разумеется, стихи Вознесенского мы не трогали, это было святое для нас, но форма подачи придумывалась. И замечательно, например, Никита Еленев в начале на панихиде поет под гитару, он взял и придумал, как это подать и сделать. И настаивать на своей правоте с позиции «я главный», чувствуя, что что-то не работает, будет только идиот. Потому что сцена не выносит лжи. И если режиссер упрется и будет говорить: «Нет, вы будете делать так, потому что так сказал я!», когда это неорганично, негармонично, не добавляет никаких ни смысловых, ни чувственных нагрузок в спектакль, зачем это? Чтобы что именно доказать? Когда артисты во время репетиции предлагают, я радуюсь. Просто тут отличие между актером и режиссером заключается в том, что режиссер видит все со стороны, а актер не видит, потому что находится на сцене, внутри. Картинку всеобъемлюще оценить сложно, когда ты участник процесса, а не наблюдатель.
Я в этой связи всегда думала о том же, смотря фильмы, в которых режиссер одновременно оказывался и исполнителем одной из ролей.
У меня даже был такой соблазн — сыграть одну из ролей в этом спектакле, но я сам себя от этого отговорил. (Смеется.) Потому что поскольку это большая работа, здесь нужна была именно нормально построенная режиссура, а брать на себя большую роль в спектакле — значит отнять время и силы от основной своей работы, назовем это так. Но небольшой эпизод я себе все-таки оставил, в телевизионном шоу «Время на ремонте».

Можно ли на примере работы над спектаклем говорить о том, что к разным поколениям нужны разные подходы?
Я не вижу разницы между, например, собой и Авдеевым с Горчилиным, хотя если так считать, то разница у нас в десять лет. Мне кажется, сейчас все это как-то размылось. А Вениамин Борисович Смехов — это человек, который сидит и зачитывает из телеграм-каналов какие-то новости, допустим. И я вообще не понимаю, что сейчас, в современном мире, есть отличие поколений. Умение пользоваться гаджетом? Подписка на те или иные телеграм-каналы? Не знаю. Мы же все объединены были определенными задачами во время репетиционного процесса, занимались пробиванием определенных смыслов, и на всех этих смыслах мы сходились, то есть у нас не было разногласий по поводу того, что мы делаем. И поэтому здесь вопрос поколений, наверное, снимался. Понятно, что, когда Вениамин Борисович начинает рассказывать истории про Владимира Высоцкого, ты вдруг понимаешь: ой, это из какого-то вроде зазеркалья. Нет, это не зазеркалье, это его жизнь. И она на самом деле рядом. Вот Бродскому 82 исполнилось бы. А нам кажется, что он так далеко, в тридесятых временах. Я думаю, это из-за того, что каждый день происходит очень много всего. А пьеса «Берегите ваши лица», к слову, внепоколенческая вещь, поэтому здесь принципиально было совместить людей абсолютно разных слоев и времен и показать неразрывность. Перед последним спектаклем я поставил рядом Сашу Горчилина и Вениамина Борисовича Смехова и говорю: «Вот, посмотрите, Вениамину Борисовичу Смехову было 30 лет в 1970 году, когда он играл в спектакле "Берегите ваши лица", сейчас, в 2022 году, 30 лет Саше Горчилину. Разница между этими двумя постановками — 52 года, ровно столько же, сколько разница между Вениамином Борисовичем Смеховым и Сашей Горчилиным. Представь, Саша, что через 52 года тебе звонит какой-нибудь режиссер и говорит: "Александр Павлович, здравствуйте, меня зовут так-то. Вы в 2022 году, 52 года назад, играли в спектакле «Берегите ваши лица», а мы его сейчас хотим ставить"». Когда мы сыграли четыре спектакля, то поздравили друг друга, что сыграли уже больше спектаклей, чем в Театре на Таганке 52 года назад, потому что тогда его сняли после трех показов. Конечно, это ирония, но в каком-то смысле история повторяется, и поколения, не поколения, а вопросы те же.

В контексте поколений вес имеет и слово само по себе. Вот как вы заметили, что молодые люди могут выбирать слова совсем из другой эпохи, а могут говорить так, что мы совсем ничего не поймем. Ценность слова от эпохи к эпохе меняется? Или все-таки слово — нечто вневременное?
Это вопрос вообще, в принципе, к языку и, наверное, к тому, что все — от семьи. У меня мама — учитель русского языка и литературы, поэтому для меня слово с детства — это нечто очень значимое. Я всю жизнь работаю со словом. Даже в своих художественных работах как художник в картины я вплетаю слова. Просто не могу иначе. Нам достаточно произнести «горячий черный хлеб», чтобы ощутить и запах, и на ощупь его почувствовать. Это же слово в действии. Оно работает напрямую с нашей памятью, со всем нашим прожитым опытом. А какова ценность слова… слушайте, у нас сейчас за слово сажают, значит, слово имеет силу.
Сейчас за слово сажают, значит, слово имеет силу.
В одном из своих интервью вы вспоминали знакомство с Яном Фабром и его мысль о том, что нужно пытаться стать не кем-то, а чем-то. Хлебом, который ты печешь, забором, который ты красишь. Как вам кажется, мы как современное общество этот подход разделяем? В чем вы для самого себя находите ответы?
Это очень точная мысль. Я не вправе, может быть, размышлять на такого рода темы, но мне кажется, что мир вокруг сделал сейчас все для того, чтобы человек зациклился на себе, а не на том, как сделать мир лучше вокруг себя. У нас в спектакле есть такой эпизод из текстов Влада. Профессор задает вопрос: «Кто, по-вашему, сейчас герой?» И он отвечает: «А вы знаете, сейчас в моде все такое депрессивное. Надломленная судьба, если у человека патология какая-нибудь», — и зал начинает хохотать, потому что ощущение, что это про наше время. Потому что все выискивают, какая в детстве была травма. Человек зациклился на классификации собственных травм, и это воля каждого, конечно, я тут только про себя могу говорить, но все, что во мне есть, все мои таланты, все мои комплексы — они существуют в гармонии между собой. И как только я начну прорабатывать одну из составляющих этого всего, я уверен, что во мне начнет рушиться и другое. Поэтому я с большим пиететом отношусь ко всем своим комплексам и ко всем своим травмам, потому что именно благодаря им я оказываюсь индивидуальностью. Хочется думать об искусстве, ведь шмоток у нас уже столько, что до конца жизни хватит, и самовыражаться через них — ну, не знаю. Все понятно, селфи сделали, в таком ресторане посидели, там посидели, но надо мир вокруг делать лучше. И если мне дан меч — театр, кино, искусство, я хочу этим мечом делать мир лучше. К сожалению, я не настолько, может быть, смел, чтобы брать в руки другие предметы и другими путями и другими арсеналами инструментов доносить до людей какие-то мысли. Но я должен делать свою работу хорошо, в этом я вижу свою задачу — делать свою работу хорошо. Если делать ее плохо, лучше ее не делать. И если это еще будет нужно, будет находить отклик, отзыв в сердцах, в умах людей, значит, все не зря. И, как мне кажется, продолжая тему сути, в театре просто нет места самолюбованию. Кино в этом смысле отличается, в большей степени для актеров. В театре даже у актера нет места самолюбованию, потому что как только артист начинает любоваться собой, он перестает быть интересен залу сразу, в ту же секунду, как только начинает упиваться этим.

Давайте поговорим о городе, который часто становится не фоном даже для происходящих событий, а скорее внутренним собеседником?
Начнем с того, что я Москву просто обожаю. Я здесь живу 15 лет, в Москве, я приехал сюда по работе из Петербурга, это не было продиктовано моим желанием оказаться в Москве, так получилось. Как писала в свое время Татьяна Москвина, петербургская писательница, есть бонтон и моветон в Петербурге. Вот моветон — это говорить «я поеду в Москву», а бонтон — это сказать «мне придется поехать в Москву». Мне в этом смысле пришлось поехать в Москву, и Москва для меня стала абсолютнейшим просто домом. И еще она стала местом, в котором я смог — сейчас это очень пошло прозвучит — реализовать себя. (Смеется.) Хотя это не значит, что в Петербурге я себя не мог реализовать. Здесь просто гигантское количество оказалось для меня опций, как еще я могу сделать мир лучше и параллельно с этим каким еще способом я могу быть счастлив.

Вы любите искать и находить новые места, маршруты, впечатления или скорее наоборот?
В городе, в городской среде я вроде бы провожу много времени сейчас, но я не очень в город интегрирован. Потому что мои локации в Москве примерно одни и те же. Я из тех людей, которые ходят в одно и то же кафе, и когда в этом кафе говорят: «А вот у нас появились новинки в меню», я эти новинки никогда не смотрю, хочу получить то же самое, что всегда, и ничего другого. (Смеется.) Это не значит, что это имеет отношение к моей работе, здесь-то я за новинки абсолютно, но в плане бытового обустройства своей жизни в Москве я довольно человек консервативный. Я каждый день хожу в бассейн «Чайка», мастерская у меня на Чистых Прудах, где я работаю, «Гоголь-центр» на Курской, живу я в Замоскворечье, и все, в принципе, моя Москва — эти точки. Город для меня, безусловно, является местом каких-то заметок на полях, но когда мне надо что-то писать, я уезжаю на дачу. Там тихо, там поют птицы, и никого нет.
Кирилл Серебренников рассказывал, что любит ощущение хаоса и шума вокруг, поэтому часто работает в ресторанах. У вас наоборот?
Ненавижу, просто ненавижу работу в ресторане. Я не переношу встречи в ресторанах. Когда назначают встречи в ресторанах по обсуждению каких-то творческих дел, я это не понимаю, я просто это не понимаю. В этом плане я всегда предлагаю встретиться в мастерской. Там потолки, много места, воздух, можно ходить, рисовать, что-то показывать, музыку включать. Встречи в ресторанах — это очень московская история. Лучше на бульваре где-нибудь на скамейке встретиться и поговорить. А еще я человек пунктуальный и ненавижу опоздания. Тут, конечно, можно докопаться тоже до каких-то детских травм, но я действительно приходил в школу, когда она была еще закрыта, боясь опоздать на первый урок.

Как вам кажется, как у нас всех вообще складываются отношения с городами? Вы часто рассказываете про свою любовь к Венеции. Города в этом смысле, как люди? Сразу понимаешь, твой или не твой это город?
Когда вы на вечеринке и в комнату заходит какой-то еще не знакомый вам человек, вы в первую же секунду чувствуете его, и с городами для меня то же самое. У меня в жизни был один единственный город, куда я приехал, сделал шаг из поезда и понял, что хочу уехать. И потом все подтвердило это мнение первой секунды. В Венеции я был первый раз в ноябре месяце, хлестал дождь, все так горизонтально земле шло, вот эти вот выгнутые зонты по площадям, и с того времени я туда предпочитаю приезжать в промежутке от ноября до февраля. Собственно говоря, мне посчастливилось, что в январе этого года я там опять оказался. Было холодно, светило солнце — в общем, все как надо. И это дает мне многое.
В этом есть какая-то ритуальность для вас? Черпать силы и мысли из мест, поездок? Стремиться к путешествиям?
В мае месяце каждый год я обязательно еду в Комарово, в Репино, это просто с детства тянется. И запах этой воды Финского залива, и весь этот лес, и эти валуны, и эта тина, которую выбрасывает на берег, это какое-то уже… я в гроб с этим лягу, что называется. А что касается путешествий, то есть гигантское количество мест, которые хочется увидеть, но это все перевешивает гигантское количество идей, которые хочется воплотить в жизнь. И в этом плане я любого рода путешествия воспринимаю как награду за хорошо проделанную работу. Поэтому на данный момент я продолжаю работать дальше над следующими вещами. И мне в какой-то степени жалко отнимать время от того, чтобы быть чем-то, в сторону того, чтобы оказаться где-то. (Смеется.) А вот если оказаться где-то, чтобы сделать что-то, вот это другое дело.