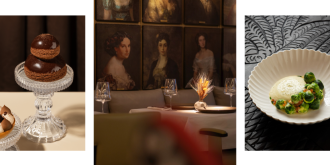Анна Наринская о слове года youthquake и силе подростков
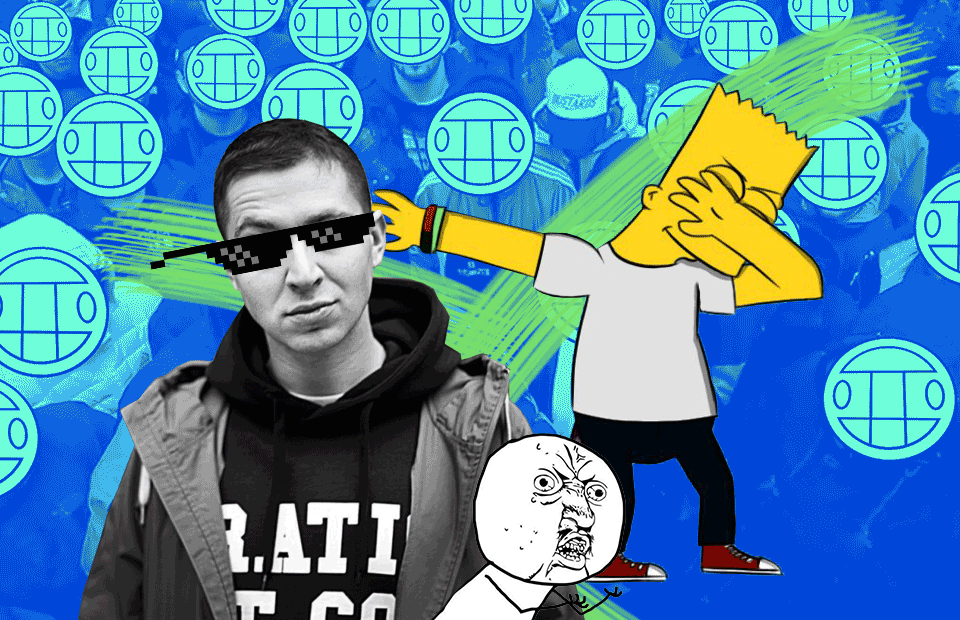
Словом 2017 года составители Оксфордского словаря выбрали youthquake, нечто вроде «юностьрясения». В этом самом словаре значение этого слова описывается как «политическое пробуждение миллениалов» (кто такие «миллениалы», предполагается, все должны были выучить уже лет пять или даже больше назад).
Правда, когда термин youthquake прозвучал впервые, он означал нечто другое. Это слово в середине 60-х годов ввела в обращение легендарная руководительница американского Vogue Диана Вриланд, описывая влияние мятежных молодежных субкультур на мейнстримовую и дорогую моду. Вроде того, когда Ив Сен-Лоран выпускает точную копию самодельной хиппистской торбы с бахромой и пацификами, но из дорогой замши с серебряными висюльками и за кучу денег.
Это значение представляется мне более близким к правде. Потому что насчет интенсивности политической активности молодых людей — это еще их моложавая бабушка надвое сказала: кроме отдельных «спецюношеских» акций — вроде тех отечественных, что с уточками и кроссовками, — ядром протестов (что у нас, что не у нас) остаются разнообразные «40 плюс». Но вот желание просоответствовать молодежи, что коммерчески, что, не побоюсь этого слова, духовно — оно среди так называемого взрослого населения в последнее время прямо зашкаливает.
Казалось бы, что тут обсуждать сегодня — чуть ли не 40 лет спустя после основания MTV, легитимизировавшего подростков как группу, как «класс», чьи вкусы требуют медийного выражения, а возможности дают неплохой результат в смысле коммерческой выгоды. Казалось бы. Но.
Именно сегодня эта зацикленность на молодости, ее отдельности и важности, шагнула со страниц модных журналов и не менее модных исследований общественного настроения вроде Nobrow Джона Сибрука в ежедневную жизнь. Обсуждения, казавшиеся теоретическими, перешли на личности. Перейду на личности и я.
Давайте я расскажу вам, как я росла. Это было так: к моим родителям приходили гости, они сидели за столом, выпивали-закусывали и, главное, разговаривали. Мне 14-15-16-летней разрешали сидеть со всеми. Главным условием было, что я не открываю рта, помалкиваю. В этом не было ничего обидного. Я и сама отдавала себе отчет, что мое подростковое мнение ну никак не может быть интересно на территории этого взрослого разговора.
Давайте я расскажу вам, как растет мой сын Гриша. Сейчас ему 16. Раньше он очень любил сидеть за столом, когда к нам приходили гости. Теперь не любит. Потому что его мнением постоянно интересуются, ему все время задают вопросы, и он не может позволить себе просто посидеть молча, развесив уши, как это, бывало, делала я. Причем Гриша прекрасно понимает, что нужен он всем не как он сам, не как Гриша с мнениями и взглядами, а как какой-то, прости господи, представитель поколения. Голос племени молодого, со всеми его хайпами и зашкварами, видеообзорщиками, рэп-батллами и прочими эщкере.

Эта мизансцена напоминает мне знаменитый эпизод из кинофильма «Курьер», только с обратным знаком. Там «типичный взрослый» Олег Басилашвили сразу же представляет всем юного гостя своей дочери как «типичного представителя современной молодежи» и немедленно сообщает, что главные качества этой самой молодежи — «эдакая смесь нигилизма и хамства». Спустя 30 лет мы, трепетно заглядывая в глаза такому «представителю», ожидаем, что сейчас он нам предскажет будущее. Нет, вернее так: все объяснит про будущее.
В слове «будущее» во многом ключ к этому отличающемуся, как кажется, от прежних культу молодости и особому интересу к тем, кто ею на данный момент наделен. Я понимаю, разумеется, что любое упоминание «технического прогресса» — несусветная банальность, но кто из нас в наши 30, 40, 50, извините, плюс не бился в истерике над зависшим айфоном или запутанным сайтом и кто не слышал или сам не рассказывал истории про то, как пришел 13-летний ребенок и все разрулил. Будущее подходит совсем близко, оно наступает даже не завтра, а уже практически через час, и хоть мы (то есть наши ровесники Джобс и Брин) его придумывали, но мы с ним не справляемся. А юнцы — хотя бы пока — да.
И что мы про них знаем? Что знаю я про своего 16-летнего сына?
Да, они свободнее нас.
Они не так, как мы, закошмарены (другого слова не подобрать) необходимостью высшего образования и вообще длинной утомительной учебы. Вот это вот «поступи или умри» в последние школьные годы не стучит у них в голове ежеминутно — слишком много кругом историй о недоучках, сделавших миллиардные бизнесы.
И — что даже важнее — их авторитеты находятся не вне их «группы», а внутри нее. Когда тебе 16, а большинство тех, кем ты восхищаешься — и твой любимый певец, и парень, построивший крутой интересный бизнес, и тот, кто все объясняет тебе про кино, — твоего или почти твоего возраста, это меняет перспективу и в корне ломает иерархию «взрослый — не взрослый», к которой мы привыкли.
Да, они увереннее нас. По большому счету мы сами их такими сделали. Это как Маугли в конце киплинговской повести говорит Шерхану: «Ты так долго твердил мне, что я человек, что я сам поверил в это» и бьет его в подтверждение горящей палкой. Начиная как минимум с 60-х годов прошлого века мы столько сетовали на угнетение детей взрослыми, так боролись с отношением к ребенку как к «недовзрослому», «неполноценному» существу, так настаивали на представлении о ребенке как о «лучшем человеке», благополучием которого все измеряется, что чего удивляться-то, когда все получилось.
Но успех этого предприятия не отменяет того, что подростки были и остаются подростками. И отскребя от своего сына все описанное выше, я вижу такого же переколбашенного своим взрослением мальчика, какими были мои ровесники 30 лет тому назад.
Кто-то уже, кажется, вспоминал в связи с этим теперешним «йусквейком» строчки Пушкина насчет того, что при виде миленького младенца в голову нет-нет да и лезут мысли о неминуемой старости и смерти и о том, что, мол, теперь младенцу время цвести, а нам (во всяком случае, вскорости) — тлеть.
Впрочем, разница между пушкинскими рассуждениями и современным умственно-душевным настроем состоит в том, что Александр Сергеевич все ж таки не спрашивает, что значат новые словечки, популярные в «младенческой» среде. И как нам обустроить Россию, тоже не спрашивает.