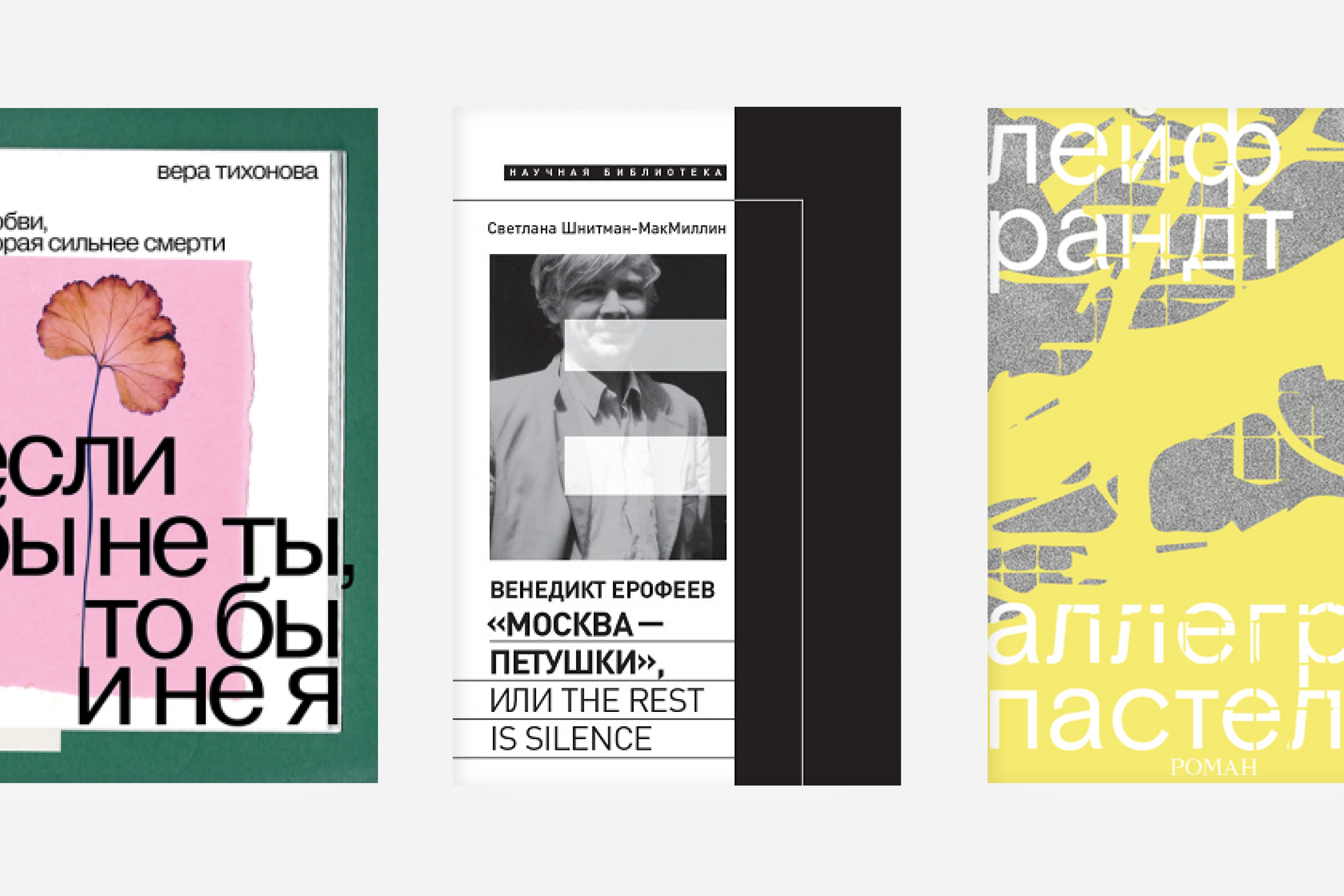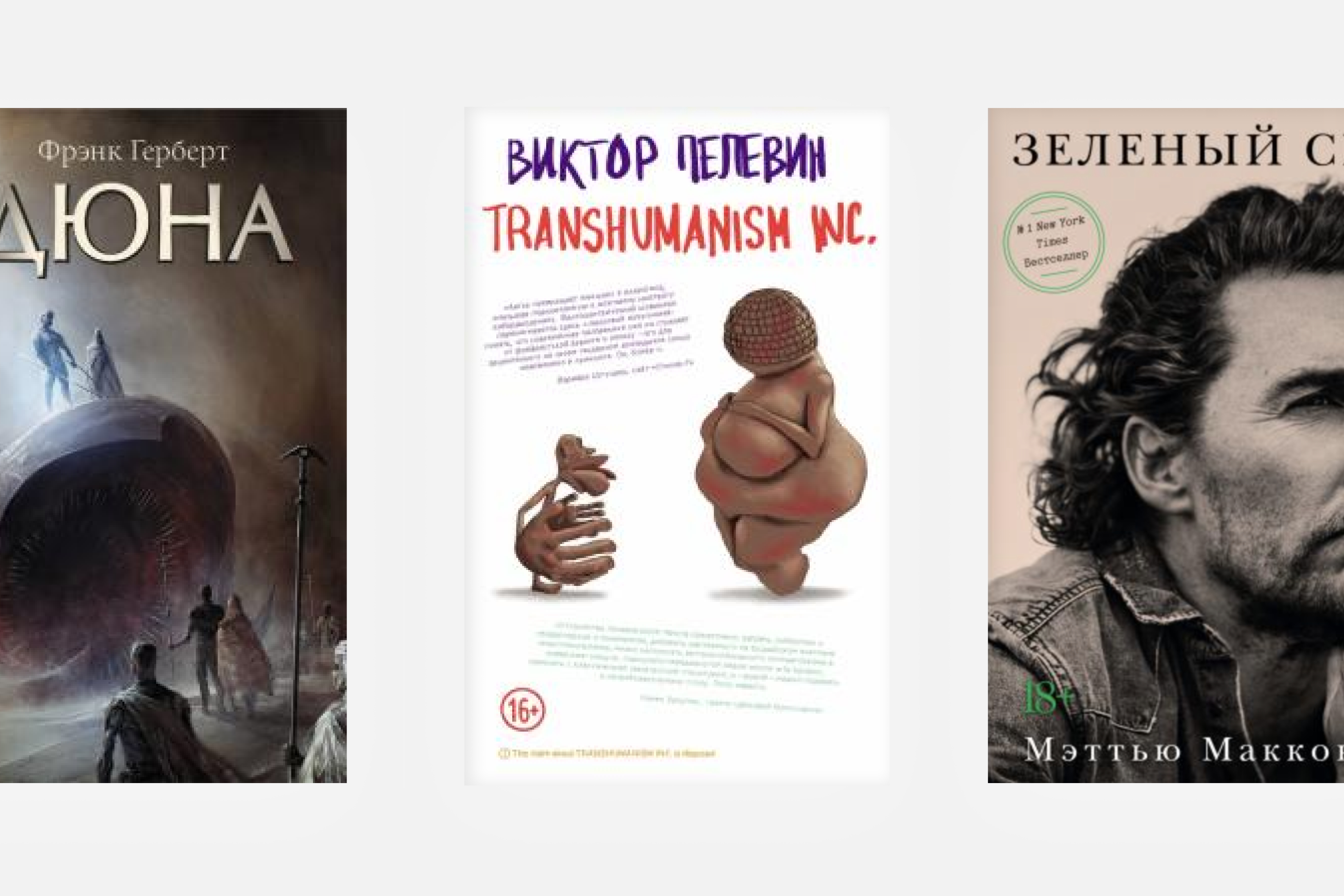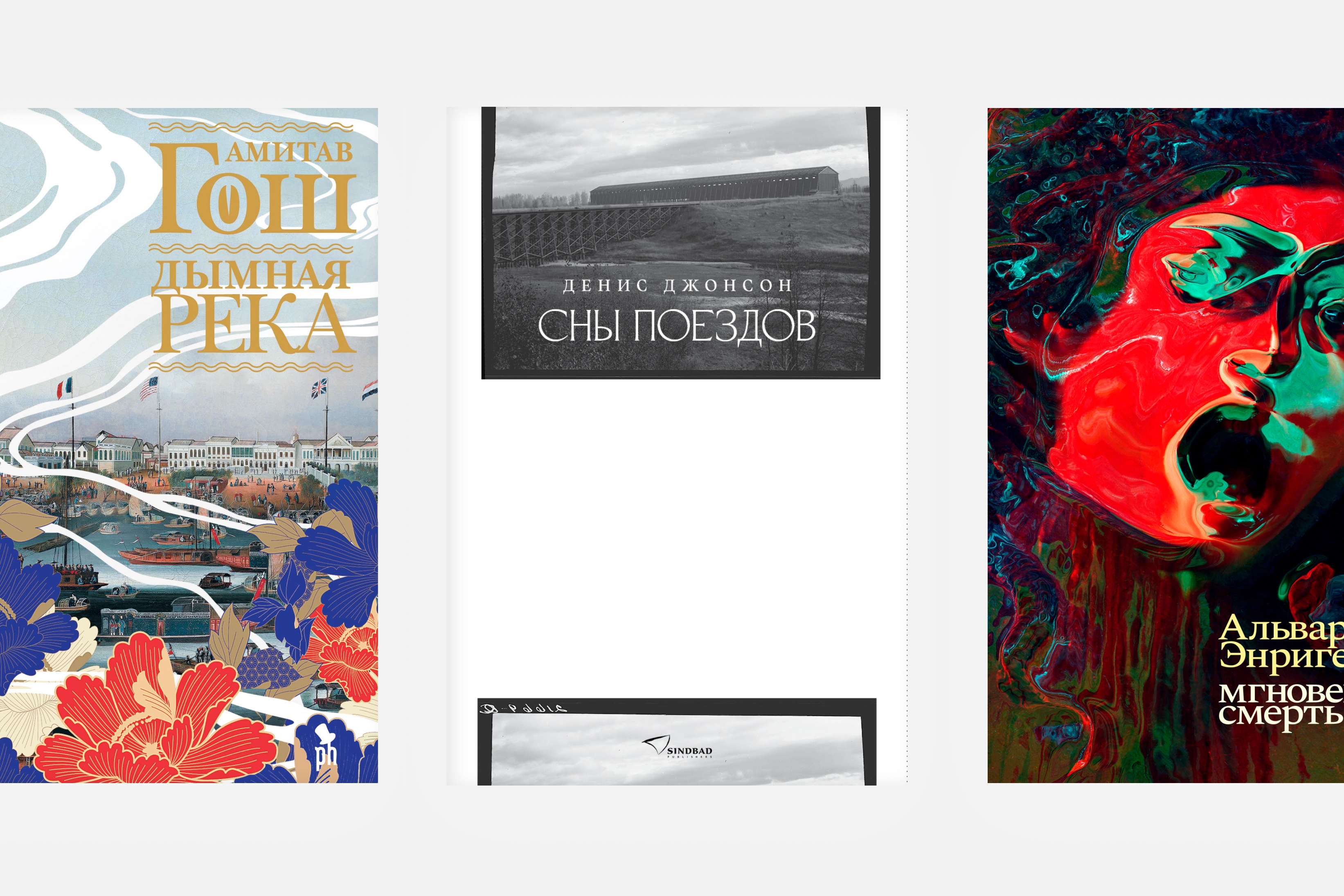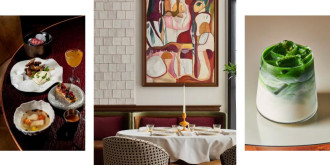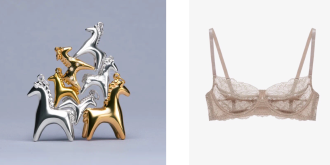Первый роман Тарантино и новый Памук: 10 книг зимы

Эрве Ле Теллье, «Аномалия»
М.: Corpus. Перевод с французского М. Зониной
Гонкуровская премия 2020 года. «Аномалия» Эрве Ле Теллье — это мистический триллер: один и тот же самолет, следующий рейсом Париж — Нью-Йорк, с одними и теми же пассажирами на борту приземляется на Восточном побережье США... дважды — с разницей в три месяца, сломав таким образом границы времени и картину мира всех, кто находился на борту и был причастен к посадке рейса. Нет, не так. «Аномалия» — это, если забыть о фантазийном допущении, добротный франко-французский роман с флоберовской проработкой характеров и уэльбековским безразличием к душевному комфорту читателей, а также накладывающимися на все откровенно киношными картинками в духе какого-нибудь Франсиса Вебера. Точнее, они были бы такими, если бы не вшитая в их ткань какая-нибудь, извините, жесть (для полноты образа представьте себе условную расчлененку под музыку из «Игрушки», «Папаш» или «Хамелеона»). Или же так. «Аномалия» — крутой квазиамериканский роман-катастрофа, где сменяющиеся эпизоды из земной — в прямом смысле, учитывая сеттинг, — жизни создают необходимый контрапункт, одновременно удерживая ваше внимание и до предела расшатывая нервы. Где-то посередине, то есть в самый разгар повествования, три эти романа сходятся в один — и начинается мистическая франко-французская с квазиамериканским привкусом катастрофы история про вторжение клонов и второй шанс, которого никто не просил (на горизонте маячит и третий шанс, но об этом уже никто и никогда не узнает). На русский язык роман перевела Мария Зонина. Для того чтобы определить, хорош перевод или плох, как правило, достаточно прочесть три-четыре предложения. Прочтя три-четыре предложения Теллье в интерпретации Зониной, забываешь, что перед тобой перевод.
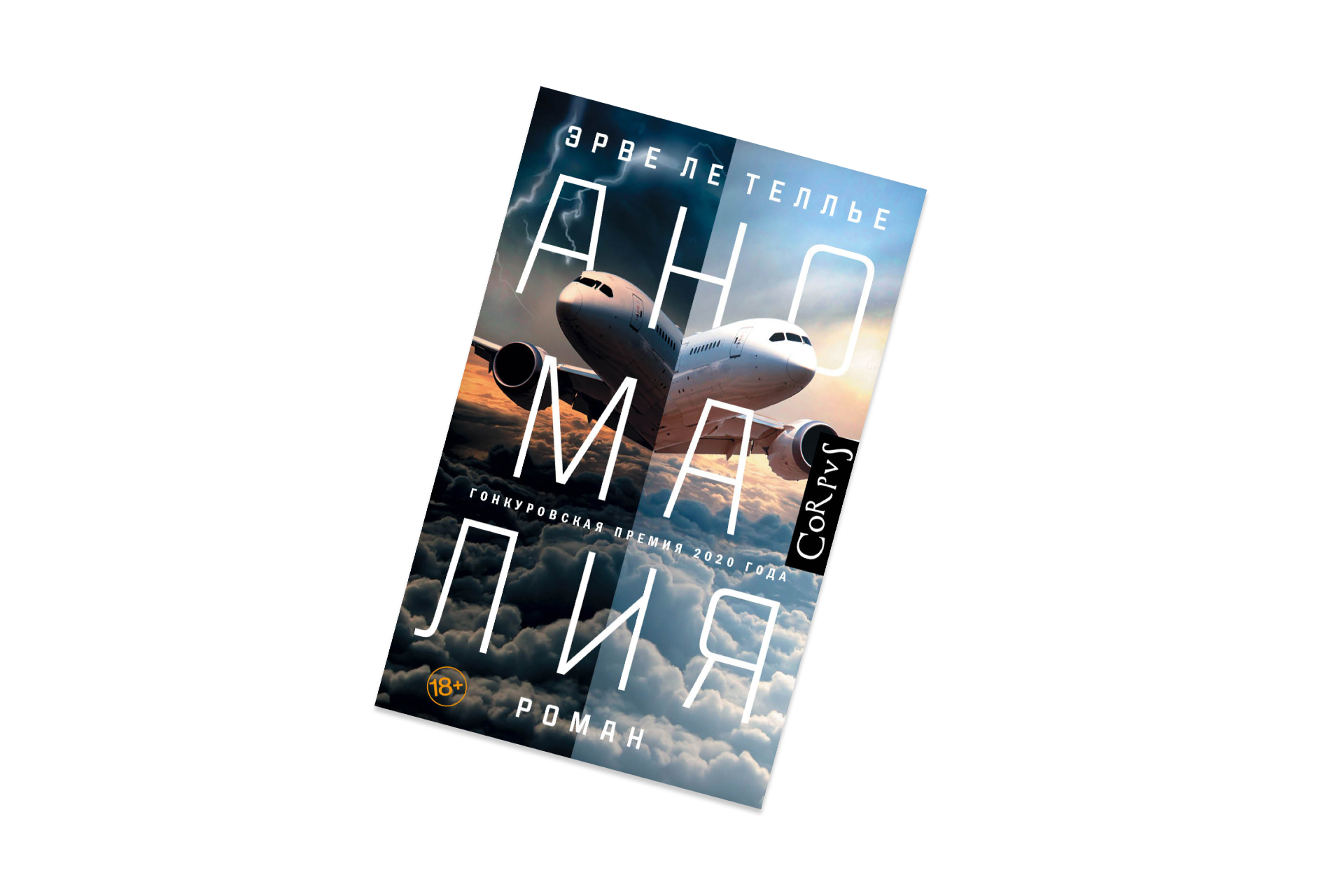
Найлл Уильямз, «Вот оно, счастье»
М.: «Фантом Пресс». Перевод с английского Ш. Мартыновой
Роман «Вот оно, счастье» повествует о жизни в вымышленной деревне Фаха, расположенной на вполне реальном западе Ирландии. Это не столько продолжение, сколько составная часть саги, зародившейся в предыдущей книге Найлла Уильямза «История дождя». Фаху, в силу ее призрачности, иллюзорности, уже не раз сравнивали с маркесовым Макондо, сюда же можно добавить параллель с фолкнеровским округом Йокнапатофа, однако сравнения эти говорят лишь о схожести приема, литературного принципа — не миров. В гораздо большей степени созданный Уильямзом мир напоминает «Старосветских помещиков» Гоголя — даром что разделяет их больше 150 лет. Пересказать сюжет этого 400-страничного романа не представляется возможным, поэтому приведу здесь целиком текст первой главы: «Дождь прекратился». Это все, можете проверить. С одной стороны, этим же, в сухом остатке, исчерпывается пересказ книги. С другой, внутри каждого абзаца — а зачастую и отдельно взятой фразы, — главный герой, которому одновременно 17 и 70 лет и от лица которого ведется повествование, проваливается в кроличью нору народных легенд, семейных былей, воспоминаний и сиюсекундных персональных озарений. Прошлое здесь — не «дела давно минувших дней», оно длится в настоящем, придавая завершенность каждому отдельно взятому моменту и образуя то, что К. С. Льюис называл «вечностью в миниатюре». Собственно, фразой «вечность в миниатюре» эта книга, на мой взгляд, определяется лучше всего.
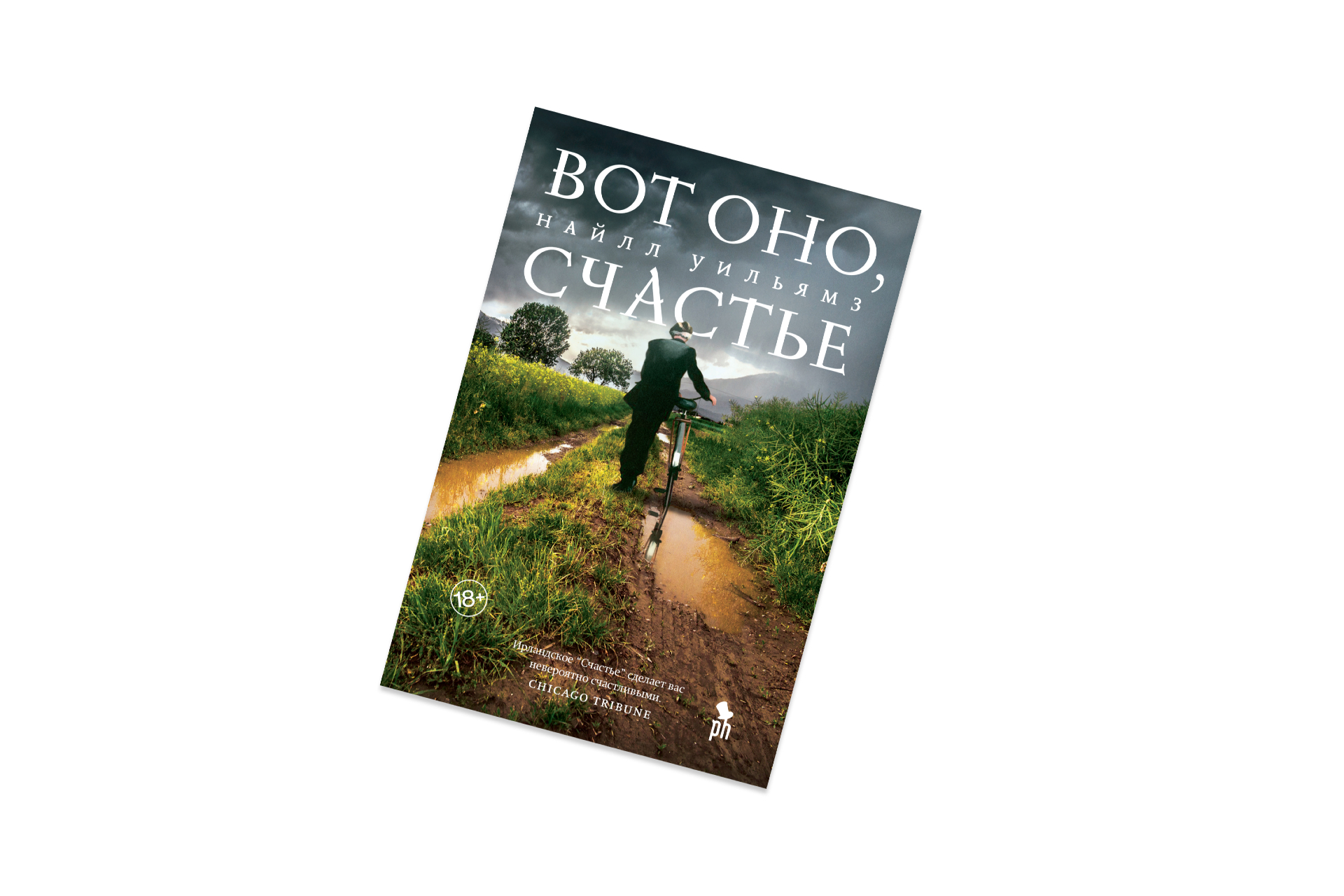
Квентин Тарантино, «Однажды в Голливуде»
М.: Individuum. Перевод с английского С. Карпова и А. Поляринова
У Квентина Тарантино, вполне вероятно, самого успешного режиссера в истории кино (девять из девяти полнометражных фильмов, снятых им к настоящему моменту, почитаются как прижизненная классика), две премии «Оскар», и обе — в номинации «Лучший сценарий»: Американской киноакадемией он отмечен в первую очередь как писатель. В этой связи называть его роман «Однажды в Голливуде» дебютным несколько неловко, даже если учесть, что романов он раньше и правда не писал. Сразу стоит сказать о том, чем эта книга не является: это не кинороман и не роман-по-фильму (самый бессмысленный и беспощадный недожанр недолитературы, когда нам зачем-то пересказывают то, что мы и так уже видели на экране). В определенном смысле «Однажды в Голливуде» действительно повторяет сюжет одноименного фильма Тарантино (1969 год; немолодой актер Рик Далтон пытается реанимировать свою карьеру; Клифф Бут, дублер, водитель и лучший друг Рика, всячески его в этом поддерживает, потому что ни другой работы, ни других друзей у обоих нет; все происходит на фоне заката золотой эры Голливуда), однако история здесь не столько даже дополнена или расширена, сколько переизобретена. Для примера: сцена из конца фильма, где Далтон находит повод воспользоваться подаренным ему учебным огнеметом, в книге мелькает едва ли не в самом начале. Это очень бойкий, затягивающий, где-то резковатый, местами немножечко слишком самоуверенный палп-фикшн: бульварное чтиво, книга для электрички, для приемной у дантиста, для одинокого вечера на продавленном диване, короче, совершенно не обязательная к прочтению книга, которую — если автор все сделал правильно, — будет хотеться повсюду таскать с собой, чтобы при первой возможности снова провалиться в ее атмосферу. «Однажды в Голливуде» –– тот случай, когда автор все сделал правильно.

Валерий Печейкин, «Стеклянный человек»
М.: «Эксмо», Inspiria
На обложке предыдущей книги Валерия Печейкина «Злой мальчик» стоял отзыв Кирилла Серебренникова: «Валерочка так пишет, что за него иногда страшно». От себя добавлю: Валерочка так хорошо пишет, что это иногда бесит. Он умудряется все на свете — поход в супермаркет, вызов сантехника, попытку записаться на массаж, — превратить в литературу. Преобразует повседневность (зачастую в самых непрезентабельных ее проявлениях) в печатные символы и, сохраняя писательскую отстраненность, вместе с тем ни от чего не прячется — даже не уворачивается, не просто воплощаясь в тексте, но в каком-то смысле становясь текстом сам по себе: мы дружим много лет, но мне по-прежнему кажется, что только читая Печейкина, я по-настоящему его узнаю. В новый сборник писателя, драматурга, русского бога мемов и Валерочки всея Руси вошли тексты из соцсетей (жуткие, смешные, грустные истории, написанные стеклянным человеком, внутри которого сидит злой мальчик — который на самом деле добрый), серия эссе для блога Storytel, а также относительно старая пьеса «Россия, вперед!». Восемь лет назад она была очень смешной. Шутки в ней не устарели ни разу, но теперь время их догнало — и они перестали быть шутками.

А. С. Байетт, «Рагнарек»
М.: «Лайвбук». Перевод с английского О. Исаевой
«Рагнарек» лауреатки Букеровской премии Антонии Байетт (вшитое в автобиографическую историю переосмысление корпуса германо-скандинавских мифов о гибели богов и мира) написан для международной серии романов «Мифы», выпускаемой британским издательством Canongate с 2005 года. На сегодняшний день в рамках проекта было опубликовано 18 романов, среди авторов-участников –– Маргарет Этвуд, Давид Гроссман, Али Смит, Виктор Пелевин и другие. В своей короткой книжке о «тоненькой девочке» автор не столько пересказывает наново мифологические сюжеты, сколько смотрит на них сквозь призму персонального сбывшегося мифа о счастливом детстве, которое в случае Байетт выпало на время Второй мировой войны, однако прошло в уединенной, смахивающей на рай английской деревушке, где царила тишина, в то время как в небе над большими городами царили «мессершмитты».

Клаудио Морандини, «Снег, собака, нога»
СПб.: Polyandria NoAge. Перевод с итальянского Е. Жирновой
«Снег, собака, нога» — самый известный роман итальянского писателя и школьного учителя Клаудио Морандини. Действие происходит в Альпах, и, возможно из-за обилия снега, а возможно, из-за наличия в центре сюжета нелюдимого старика и присоединившейся к нему впоследствии собаки, а также общему сентиментально-ироничному отношению к жизни, на первых порах книга рождает ассоциации со шведской литературой — «Второй жизнью Уве» Бакмана и «Петсоном и Финдусом» Нурдквиста (правда, Уве и Петсон не собачники, а кошатники, притом поневоле, но дела это не меняет), до того стойкие, что, когда к главному герою кто-то обращается «синьор», поначалу невольно вздрагиваешь. В общем, жил-был в Итальянских Альпах отшельник. Брюзга, мизантроп и гедонист. А еще грязнуля. И философ. Весь год готовился к приходу зимы, а потом всю зиму ждал, когда она закончится. Чурался любой компании, при этом был не дурак поговорить. Любил животных. Хорошо прожаренных. С лучком. Однажды к нему приблудился пес. Отшельник решил его оставить — на случай, если закончатся припасы. Вскоре оказалось, что пес говорящий — ну, или у отшельника просто потек чердак. Одно из двух. Хотя, возможно, и то и другое. Самое во всем этом удивительное даже не то, что читателю бесконечно интересно следить за жизнью нелюдимого престарелого итальянца, с которым фактически ничего не происходит (по крайней мере, до тех пор, пока он не обнаруживает торчащую из подтаявшего завала ногу, после чего сюжет приобретает черты метафизического псевдодетектива, где главным вопросом оказывается не «кто преступник?», а «какого лешего?»), а то, как автор умудряется балансировать на грани реализма и не то мистики, не то фантастики, не то вовсе абсурда, ни разу эту самую грань не переходя. Мрачноватое чудо, поданное как нечто само собой разумеющееся, — вот что такое эта книга.

Мария Бурас, «Лингвисты, пришедшие с холода»
М.: АСТ, «Редакция Елены Шубиной»
Книга Марии Бурас о зарождении на стыке 1950-х и 1960-х годов и последующем развитии структурной лингвистики — по своей, простите за тавтологию, структуре напоминает подкаст: авторский голос, отвечающий за сюжет, перемежается множеством других голосов — экспертов и очевидцев, — раскрывающих контекст и обогащающих фактуру. Наряду с историческими и научными фактами, в книге приводится множество баек с подчас взаимоисключающими деталями и перипетиями, что придает исследованию характер и ритм расследования, равно занимательного и забавного. Так, охотничье ружье из истории одного очевидца в пересказе другого становится финским ножом; безвременно закрытый симпозиум по структурному изучению знаковых систем оказывается вполне себе состоявшимся. Говоря о принципиально новой для своего времени науке, вобравшей в себя идеи математической лингвистики и всю совокупность знаний о языке, эксперты превращаются почти что в теологов, придавая разговору о науке характер сакральной поэзии: знание есть дополненная реальность незнания; слово есть одновременно предмет и средство изучения –– выстраиваясь в последовательность, слова образуют дорогу, ведущую к пределу познания –– концу языка и его же первоначалу.

Орхан Памук, «Чумные ночи»
М.: «Иностранка». Перевод с турецкого М. Шарова
Новый роман лауреата Нобелевской премии по литературе. Если вы из тех читателей, у кого зачастую любимой частью книги оказывается предисловие (сам я, безусловно, принадлежу к их числу), то знайте: Мина Мингерли, вымышленный автор «Чумных ночей», пишет в самом начале, что этот роман изначально задумывался ею как предисловие к переписке дочери султана Мурада V с сестрой. Однако, разросшись до 600 страниц, предисловие само стало романом — историческим, приключенческим, детективным, — этакой книгой-матрешкой с ненадежным (до некоторой степени) рассказчиком. 1901 год. На остров Мингер, жемчужину Восточного Средиземноморья, приходит чума — одна из волн так называемой Третьей пандемии, начавшейся за 45 лет до описываемых событий. «В целях недопущения распространения заболевания» туда командируют маститого врача-эпидемиолога, женатого на упомянутой выше Пакизе-султан. Доктор объявляет карантин: дорогие, мол, гости и жители острова, при первых признаках заболевания не выходите из комнаты, не совершайте ошибку, соблюдайте социальную дистанцию, лучше дома и т. п. Однако у местных, досель существовавших мирно православных и мусульман, возникают определенные вопросы к небогоугодным, по мнению то одних, то других, методам профилактики и лечения. Впрочем, это лишь один из множества пластов огромной, одновременно актуальной и антизлободневной, захватывающей, веселой, а иногда откровенно дурашливой истории. Мало кому из именитых писателей удается, получив, кажется, всю литературную славу этого мира, почет коллег и обожание читателей, подчас граничащее с идолопоклонством, оставаться — по крайней мере, в глубине души, — авантюристом и хулиганом. Однако Орхану Памуку это, вне всяких сомнений, удается по сей день.

Дэниел Левитин, «На музыке: Наука о человеческой одержимости звуком»
М.: «Альпина нон-фикшн». Перевод с английского А. Поповой
Чтобы перестать слышать у себя в голове песню Леди Гаги «Joanne», из любимой мелодии со временем превратившуюся в проклятие, мне пришлось научиться медитировать. По мнению моего стоматолога, отсутствию у меня в 36 лет кариеса способствовала появившаяся еще в детстве привычка периодически отбивать тот или иной ритм зубами. По словам нейробиолога, рок-музыканта и писателя Дэниела Левитина, от обезьяны меня отличает, в частности, тот факт, что для примата скрежет пенопласта по стеклу — то же, что для вашего покорного слуги «Wake me up…» Билли Джо Армстронга: одно сплошное наслаждение. Говоря о книге Левитина «На музыке», каждый обречен вольно или невольно говорить, в первую очередь, о себе, поскольку для каждого эта книга, в конечном счете, станет ответом на личные вопросы, укорененные глубоко в прошлом. Это научно-популярное исследование универсального языка, заведомо понятного каждому на интуитивном, докогнитивном уровне. Рассказ о том, как музыка влияет на наш мозг, а мозг — на наше восприятие музыки. Подробный разговор о том, почему отстукивание ритма — пальцами ли, зубами — не нервный тик (во всяком случае, не всегда), а разновидность как внутреннего монолога, так и вполне себе диалога с кем-нибудь более реальным, чем, например, Леди Гага в твоей голове, от присутствия которой, как я выяснил благодаря Левитину, можно избавиться, не прибегая к древнекитайским околодуховным практикам.

Генри Расселл, «Главное в истории литературы»
М.: «Манн, Иванов и Фербер». Перевод с английского Ю. Змеевой
Книга преподавателя Оксфорда Генри Расселла представляет собой сборник коротких филологических скетчей о длинных романах: в максимально сжатой форме автор обозревает 67 признанных шедевров мировой литературы от «Повести о Гэндзи» до «Неаполитанского квартета», попутно классифицируя их по формам и поджанрам, ключевым темам и приемам. «Главное в истории литературы» можно рассматривать как снабженный оригинальными комментариями рекомендательный список — вроде тех, что любят публиковать в соцсетях люди, ничего, на самом деле, не читающие («1600 романов, которые нужно прочесть до 16:00», «120 книг, с которыми обязан познакомиться каждый 120-й житель Земли» и прочая тому подобная белиберда, сводимая к бессмысленному перечислению названий). Прелесть и принципиальное отличие списка Расселла в том, что автор на стадии входа снимает с читателя всякую ответственность, а также вкратце отвечает на закономерный вопрос, почему та или иная книга вообще сюда попала: вот 67 романов, которым вы ничего не должны, поэтому — читать или нет, — решайте сами.