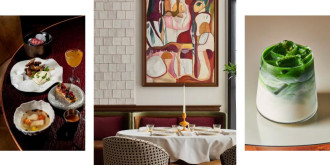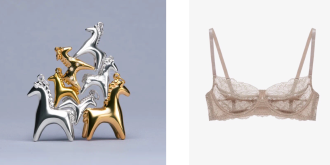«В Питере жить»: отрывки из сборника-прогулки

С 25 по 28 мая в Санкт-Петербурге в 12-й раз пройдет международный книжный салон. На нем состоятся встречи с самыми яркими писателями разных направлений — от Алексея Иванова и Евгения Водолазкина до Ника Перумова и Александры Марининой, а почетным гостем станет даже особа королевской крови — ее высочество принцесса Кентская. В Санкт-Петербург она прилетит как автор цикла исторических романов «Анжуйская трилогия».
Особо важной книгой питерского салона станет сборник «В Питере жить» — литературная прогулка по Санкт-Петербургу в компании лучших современных авторов. По просьбе «Редакции Елены Шубиной» Андрей Аствацатуров, Борис Гребенщиков, Михаил Пиотровский, Михаил Шемякин, Татьяна Москвина, Евгений Водолазкин, Андрей Битов и другие знаковые авторы-петербуржцы рассказали о своем Питере и о том, как в нем жить.
«В Питере жить» — литературная пара сборнику «Москва: место встречи». «Это совсем другая ментальность — петербургский текст, — говорит автор идеи книги, издатель Елена Шубина. — Я сама не ожидала, что это будет настолько заметно. Но когда книга сложилась, когда уже было оформление и название, были готовы тексты, стало очевидно, что это совсем другой воздух».
Переплет этой книги — офорт известного художника Михаила Шемякина, где изображен исчезнувший уже Введенский канал. И в сборнике есть рассказ самого художника и скульптура о детстве на берегу этого канала и послевоенном Петербурге начала 50-х годов. Вообще, авторы «В Питере жить» — это «знаковые лица» города разного возраста и разных эстетических взглядов. Там есть заслуженный деятель искусств, один из основоположников жанра авторской песни Александр Городницкий и молодая писательница Ксения Букша, есть почти классики русской литературы Валерий Попов и Андрей Битов, а рядом с ними — актриса Елизавета Боярская. И получается, что Петербург имперский соседствует с Петербургом Достоевского, дворцы Растрелли с дворами-колодцами, замки Трезини с темными, почти исчезнувшими каналами. Поэтому и книга называется не просто «В Питере жить», у нее очень точный подзаголовок — «от Дворцовой до Садовой, от Гангутской до Шпалерной. Личные истории».
«РБК Стиль» прочел книгу и предлагает прогуляться по пескам Петербурга и дворам Ленинграда, прочитав фрагменты рассказов сборника.
«В Питере жить: от Дворцовой до Садовой, от Гангутской до Шпалерной. Личные истории»
Издательство: «Редакция Елены Шубиной»
Татьяна Толстая «Чужие сны»(отрывок):
Петербург строился не для нас. Не для меня. Мы все там чужие: и мужчины, и женщины, и надменное начальство в карете ли, в «мерседесе» ли, наивно думающее, что ему хоть что-нибудь здесь принадлежит, и простой пешеход, всегда облитый водою из-под начальственных колес, закиданный комьями желтого снега из-под копыт административного рысака. В Петербурге ты всегда облит и закидан — погода такая. Недаром раз в год, чтобы ты не забывался, сама река легко и гневно выходит из берегов и показывает тебе кузькину мать.
Некогда Петр Великий съездил в Амстердам, постоял на деревянных мостиках над серой рябью каналов, вдохнул запах гниющих свай, рыбьей чешуи, водяного холода. Стеклянные, выпуклые глаза вобрали желтый негаснущий свет морского заката, мокрый цвет баркасов, шелковую зеленую гниль, живущую на досках, над краем воды. И ослепли.
С тех пор он видел сны. Вода и ее переменчивый цвет, ее обманные облики вошли в его сны и притворялись небесным городом — золото на голубом, зеленое на черном. Водяные улицы — зыбкие, как и полагается; водяные стены, водяные шпили, водяные купола. На улицах — водянистые, голубоватые лица жителей. Царь построил город своего сна, а потом умер, по слухам, от водянки; по другим же слухам, простудился, спасая тонущих рыбаков.
Он-то умер, а город-то остался, и вот, жить нам теперь в чужом сне. Сны сродни литературе. У них, конечно, общий источник, а кроме того, они порождают друг друга, наслаиваются, сонное повествование перепутывается с литературным, и все, кто писал о Петербурге, — Пушкин, Гоголь, Достоевский, Белый, Блок — развесили свои сны по всему городу, как тонкую моросящую паутину, сетчатые дождевые покрывала. От бушующих волн Медного всадника и зелено-бледных пушкинских небес до блоковской желтой зари и болотной нежити — город все тот же: сырой, торжественный, бедный, не по-человечески прекрасный, не по-людски страшненький, не приспособленный для простой человеческой жизни.

Борис Гребенщиков «Пески Петербурга»
Ты — животное лучше любых других,
Я лишь дождь на твоем пути.
Золотые драконы в лесах твоих,
От которых мне не уйти.
И отмеченный светом твоих зрачков
Не смеет замкнуть свой круг,
И пески Петербурга заносят нас
И следы наших древних рук.
Ты могла бы быть луком — но кто стрелок,
Если каждый не лучше всех?
Здесь забыто искусство спускать курок
И ложиться лицом на снег.
И порою твой взгляд нестерпим для глаз,
А порою ты — как зола;
И пески Петербурга заносят нас
Всех
По эту сторону стекла...
Ты спросила: «Кто?»
Я ответил: «Я»,
Не сочтя еще это за честь.
Ты спросила: «Куда?»
Я сказал: «С тобой,
Если там хоть что-нибудь есть».
Ты спросила: «А если?..» — и я промолчал,
Уповая на чей-нибудь дом.
Ты сказала: «Я лгу»; я сказал: «Пускай,
Тем приятнее будет вдвоем».
И когда был разорван занавес дня,
Наши кони пустились в пляс
По земле, по воде и среди огня,
Окончательно бросив нас.
Потому что твой взгляд — как мои слова:
Не надежнее, чем вода.
Но спросили меня: «А жив ли ты?»
Я сказал: «Если с ней — то да».

Андрей Аствацатуров «Едет маленький автобус…» (отрывок):
Маршрутное такси
В Санкт-Петербурге, в самом европейском городе нашей необъятной российской империи, встречается удивительное разнообразие общественного транспорта. У нас есть все, что пожелается пассажиру, даже самому что ни на есть фантазийному и привередливому: тут и широченные автобусы, щедро размалеванные рекламой, и рогатые, как антилопы джейран, троллейбусы, и дребезжащие трамваи, и поезда метрополитена, ритмично постукивающие колесами, и нарядные такси с шашечками и лампочками. Весь этот автотранспорт, завезенный из соседних стран, смотрится на наших улицах шикарно, очень по-европейски и, главное, — вместительно.
Однако в семье, как говорят, не без урода, и среди заграничных средств пассажироперевозок случаются досадные исключения. Возьмем, к примеру, маршрутный автобус. В Петербурге он почему-то мал и неказист. Да вдобавок еще и тесен. Хочется спросить: как же так? Как такое возможно? Ведь мы не просто окраинный город. Мы — северная столица, «окно в Европу», Венеция… Нам это неправильно со всякой точки зрения. Особенно — с культурной. Неправильно, неприлично и невозможно.
Посудите сами… Вот залез ты, скажем, в маршрутку. И слово-то какое — «залез»! Слышите? В автобус, троллейбус, трамвай петербуржцы самым пристойным манером «заходят». Заходят, не задерживаясь, не препятствуя закрытию дверей. («Следующая остановка, — объявляют вам по громкой связи, — «Гостиный Двор».) В метро — «спускаются». («Граждане, соблюдайте чистоту и порядок на станциях и в вагонах метрополитена…») А в эту самую маршрутку именно что «залезают».

Михаил Шемякин «Унылые места — очей очарованье» (отрывок):
Детство мое прошло в послевоенной Германии, сначала в Кёнигсберге, бывшей столице Пруссии (впоследствии переименованной в Калининград). Затем Дрезден и многие другие города Саксонии, где мой отец занимал должность коменданта. Силуэты немецких городов времени моего отрочества обладали причудливым рваным контуром — результат советских и американских бомбардировок. Небольшие городишки, в которых я жил, были расположены в гористой местности, и узенькие улочки то уходили в гору, то катились под нее, благодаря этому конуры домишек казались скособоченными.
В конце сороковых и в самом начале пятидесятых мы с сестренкой и родителями гостили иногда у моей бабушки в Ленинграде на улице, которая именовалась Большой Зелениной. Некоторые дома, расположенные на ней, были обезображены немецкими бомбами, мне напоминали и Дрезден, и Кёнигсберг. И наоборот — сохранившийся от бомбежек Ленинград поражал и удивлял своей строгой вычерченностью и линейностью. Удивляли бесконечные перспективы улиц, ошеломляющая прямолинейность Невского проспекта. Архитектура этого непривычного и удивительного города пугала и одновременно притягивала, завораживала меня.
В 1958 году моя семья вернулась из Германии в Россию. Мы поселились на Загородном проспекте в доме под номером 64, один из углов которого выходил на Подольскую улицу. В этом доме родился мой любимый композитор Дмитрий Шостакович, а я прожил в нем долгие шестнадцать лет, вплоть до моего ареста и изгнания из СССР. Жили мы на шестом этаже в густо заселенной коммуналке. Квартира была беспокойная. Народец, обитавший в ней, был довольно шумным, крикливым и драчливым. Шофера-дальнобойщики, моряк дальнего плаванья, трамвайная кондукторша и деревенские тетки, заселившиеся в эту квартиру во время блокады. Их оттеняла своим утонченным высушенным ликом и такой же иссушенной фигурой графиня Максимова, которой когда-то принадлежал не то этот, не то соседний дом. А нынче она обитала в углу за ширмочкой, в небольшой комнате со своей племянницей, преподающей историю керамики в художественно-прикладном училище имени Мухиной.

Елена Чижова «Дворовые уроки истории» (отрывок):
Иногда я пытаюсь понять, что чувствуют люди, которые никогда и никуда не переезжали. Жизнь, прожитая там, где родился, — долгий спектакль в одних декорациях: действующие лица (с течением лет — все больше их исполнители) приходят и уходят, но всегда остаются на сцене памяти. Слова, которые они произносят, да и сами их образы меняются неуловимо, и уже трудно сказать, так или немного иначе выглядели мать и отец в тот единственный день, когда главный герой своей непрерывной жизни вышел во двор с новыми, только что подаренными формочками, или, наоборот, вошел в парадную со школьным аттестатом, или привез из больницы неделю как родившегося первенца.
Поскольку речь о Петербурге, тема декораций — и шире: театральности — отнюдь не нова. Еще Астольф де Кюстин, перефразируя известное высказывание итальянского литератора Ф. Альгаротти: «Петербург — окно в Европу», назвал его жителей «ордой калмыков, разбивших стан среди декораций античных храмов». Ему вторит Меттерних: «Россия подобна большой и роскошной театральной декорации, выстроенной в виду Европы; но с нашего места можно увидеть, как работают механизмы за кулисами, и понять, что сработаны они очень скверно». Я не во всем согласна с перечисленными авторами: напротив, некоторые наши механизмы работают как часы. Во всяком случае, те, что отбивают время за кулисами моей памяти.
Доехав на автобусе №3 или №27 до Театральной площади, я могу превратиться в пятилетнюю девочку, идущую домой с родителями: молодой мамой и не таким уж молодым отцом. Мы переходим на ту сторону, к Консерватории (кстати, я еще не знаю, что означает это слово, потому что в Консерваторию меня не водили, а водили в Мариинский театр, в моем детстве — Кировский, но в семье его всегда называли по-старому, как и Офицерскую улицу, задолго до моего рождения переименованную в непонятных Декабристов), проходим вдоль сквера, где стоит композитор Глинка, опоясанный полукружьем перил, по которым удобно лазать, открываем дверь в единственную парадную дома 6 и входим наконец в нашу квартиру 10 на третьем этаже. Я говорю «наконец» — потому что все мои детские пути-дороги домой всегда длинные, откуда ни иди, хоть от Никольского собора по набережной мимо черных угловых атлантов, хоть от Львиного мостика, если мы гуляли в скверике, хоть от галантереи на Печатников, куда мы с бабушкой ходим раз в месяц на другой день после ее пенсии, что бы купить мне очередную ленту в косу. В одно из таких возвращений— кажется, мы шли из Никольского сада — бабушка, вдруг остановившись и оглядевшись, озадачила меня новым словом «большевики»: сказала— не мне, а, как принято говорить в театре, когда что-то произносится вслух, но не в расчете на уши партнера, в сторону: «Пожить бы еще лет двадцать, поглядеть, чем кончится дело у большевиков… Разворуют царское и сдохнут». О «царском», в отличие от всех, окружавших меня в те годы, бабушка говорила со знанием дела, потому что родилась в середине восьмидесятых теперь уже позапрошлого столетия и бабушкой приходилась не мне, а моей маме, но мне, пятилетней, это было все равно. Потому что у человека должна быть бабушка, а других бабушек и дедушек у меня нет, все они умерли или погибли. Зато есть прабабушка, мама и папа.

Татьяна Мэй «Через Атлантиду — дворами» (отрывок):
Но однажды друзья попросили погулять с американской девочкой. Она была русского происхождения, и родители очень хотели, чтобы дочь полюбила их родной, а ей незнакомый, чужой город. Особенно уговаривали поводить по улице Жуковского, где они когда-то жили. Поразить ее мрачным великолепием старого Петербурга. Потому что если по Жуковского идти дворами, не под фасадами, то и дело проваливаешься в прореху во времени — когда улица была еще Малой Итальянской, петербургские обыватели обсуждали за вечерним чаем покушение какой-то нигилистки на градоначальника Трепова, дамы носили турнюры и фильдекосовые чулки, а Достоевский дописывал «Братьев Карамазовых». Главное только не забывать сворачивать с надежной асфальтовой тропы под осыпающиеся арки. Нырять, толкая вековые двери, в тесные, плохо освещенные парадные, переступать через выложенные давно истлевшими руками мозаичные даты, выбираться черным ходом и почаще задирать голову — к не мытым бог знает сколько лет подслеповатым окнам, ветхим холодильным ящикам, нежной чахоточной листве тоненьких лип и кленов, затягивающей зеленой ряской верх узких колодцев.
Юная американка послушно шла со мной рядом. Внимала. Рассматривала. А в конце смущенно сказала: «Все это очень красиво. Но у меня такое чувство, что мы гуляем по затонувшей Атлантиде».

Наталия Соколовская «Мания Бенуа» (отрывок):
«Как в пулю сажают вторую пулю…» — это о прямизне петербургских улиц и проспектов сказал москвич в 1915 году. Про пули Пастернак как в воду глядел. В отношении Шпалерной уж точно.
Любить Шпалерную улицу трудно. По крайней мере, ту ее часть, что начинается у Воскресенского проспекта Скорбященской церковью и заканчивается у Литейного Большим домом. Как сквозь строй, идешь между сомкнутыми войсковыми шеренгами домов. Здесь мало прохожих. Нет деревьев, выглядывающих из дворов. По четной стороне — три проходных двора и несколько арок, по нечетной Окружного суда — два. Арка дома №25 забрана глухими воротами с глазком. Белесая зеленоватая краска облуплена. За воротами — двор ДПЗ (Дома предварительного заключения), в просторечии «Шпалерки». Если от этих ворот идти к Литейному, то по левую руку можно увидеть светлый Сергиевский собор. Точнее, его можно было видеть с 1917-го по 1932 год, потом на месте Окружного суда, сгоревшего в Февральскую, возникнет загородившее и собор, и часть небосвода, вплотную примыкающее к «Шпалерке» здание ОГПУ–НКВД–КГБ. В 1932-м загораживать станет нечего: Сергиевский собор будет снесен (тогда же, когда и Матфиевская церковь в садике возле дома Бенуа, на Кронверкской).
Но когда в январе 1922-го Леонтий Бенуа вышел за ворота «Шпалерки», собор еще стоял. В начале Германской Бенуа принимал участие в его реконструкции. И это было первое его здание, встреченное им на пути из тюрьмы — домой. Посмотрел ли он влево, на собор? Кто знает. Но известно точно, что в проектировании пока еще не существующего здания НКВД, вдоль фантома которого сейчас идет Бенуа, примет участие его племянник и ученик Николай Лансере. Проектировать это культовое во всех отношениях здание Лансере будет спустя почти десять лет, сидя в «шарашке» при «Шпалерке» (уменьшительные суффиксы и невольная рифма в данном случае любую усмешку превращают в гримасу ужаса). Потом Лансере выпустят, а через несколько лет снова арестуют и расстреляют.