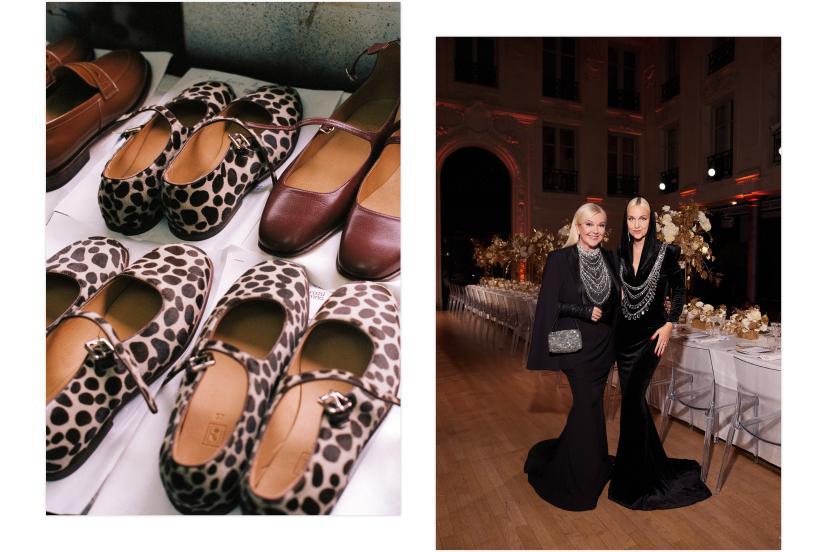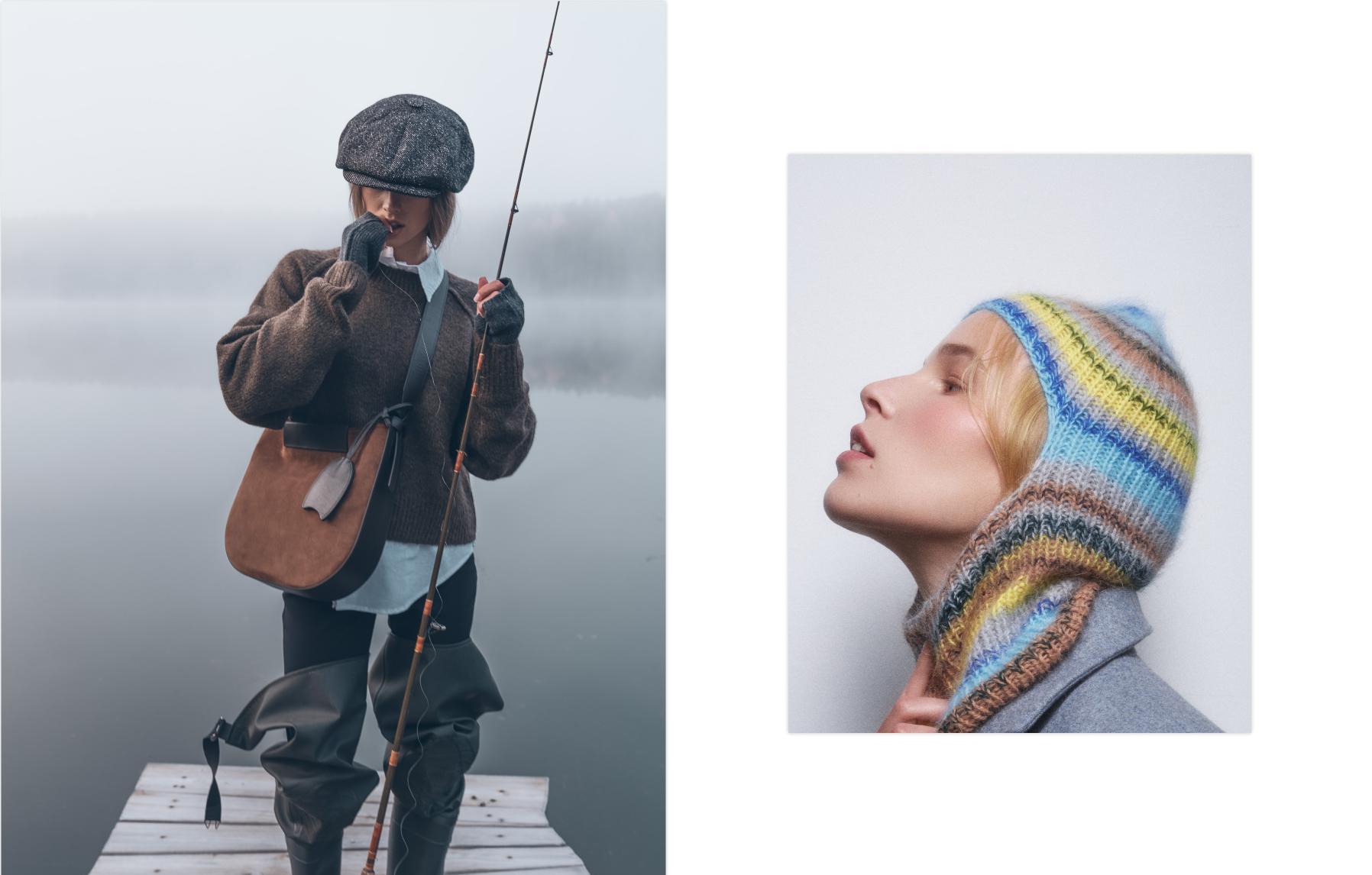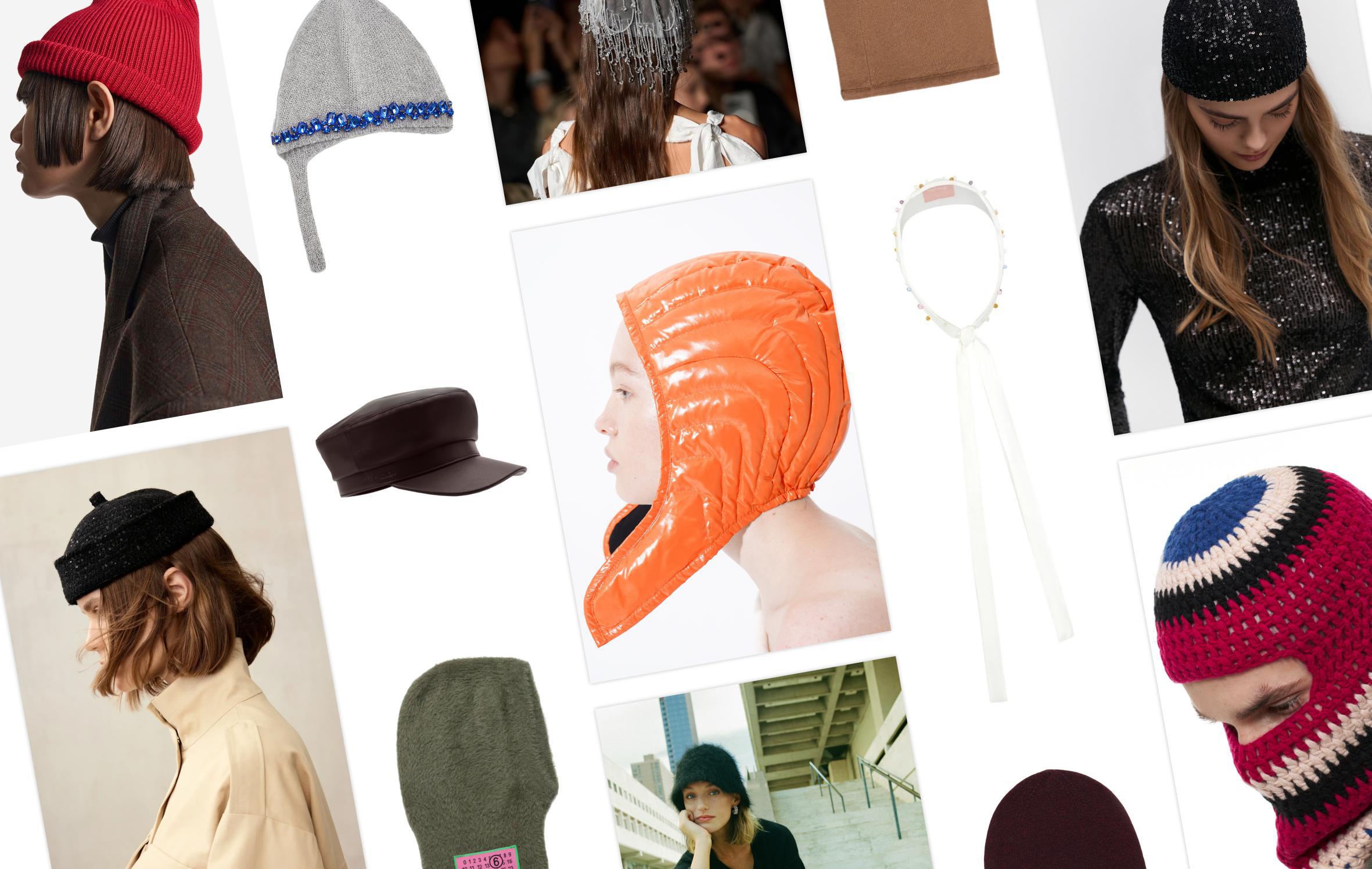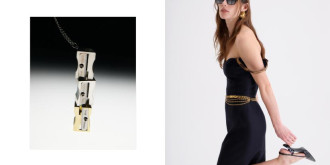«В нашем кино все еще есть желание догнать и перегнать Америку»

— Андрей Сергеевич, в названии вашего нового фильма заложен парадокс — фильм о Второй мировой войне, концлагерях и казнях, но при этом он называется «Рай».
— Я в очередной раз пытаюсь, как уже делал в своих предыдущих картинах, таких как «Ближний круг», поднять вопрос о том, что зло должно быть всегда привлекательно по форме, чтобы человек был соблазнен им.
— В основе сценария какая-то книга или документальные свидетельства?
— Один роман произвел на меня большое впечатление, это «Благоволительницы» Джонатана Литтелла. Я считаю, что это одно из крупнейших литературных произведений XXI века. Но «Рай» — не экранизация романа, это фильм о русских людях, которые участвовали во французском Сопротивлении и сделали большой вклад в победу во Второй мировой войне. Я был очень впечатлен в свое время, когда узнал о судьбе нескольких русских эмигранток, спасавших еврейских детей во время оккупации немцами Парижа. Одна из них, княгиня Вера Оболенская, была потом гильотинирована.
— Как вы считаете, зло и добро – абсолютные понятия? Говорят, что в некоторых ситуациях зло оборачивается добром. Или это устойчивые вещи и всегда можно определить, что есть черное и что белое?
— Вот это интересный вопрос, но мне кажется, что между злом и добром лежит еще серое поле. Потом есть такое понятие, как относительность. И начиная с последней четверти девятнадцатого века относительность зла и добра, соблазнительность зла была очень подробно исследована Федором Михайловичем Достоевским, который во многом повлиял на развитие ницшеанства. Чуть позже, как вы знаете, возникла теория относительности в физике. Все на свете относительно, но сейчас особенно видно, как трудно иногда определить, где кончается зло и начинается добро.

— Как вы определяете это для себя?
— Совсем по-простому. Когда все здоровы, то легче.
— Изменился ли человек к лучшему за последние два столетия? Или, скажем, за две тысячи лет?
— Мне кажется, человек вообще не меняется. У него как были, так и остались базовые интересы, базовые инстинкты и базовые потребности. Сейчас европейская часть человечества переживает большой кризис в силу того, что базовые потребности удовлетворены, а дальше что? Как говорил Достоевский, теперь смысл жизни подавай человеку. А со смыслом жизни сложно. Успех государства определяется повышением ВВП, не так ли? Но счастья людям это не приносит. Если люди лучше едят, ездят в лучших машинах и могут лить воду из крана бесконечно, они от этого не становятся более счастливыми. Мне кажется, что дефицит необходим человеку. Ему должно чего-то не хватать, чтобы он стал человеком. Неблагоприятные условия, они, собственно, и создали человека работающего, прямоходящего. В абсолютно благоприятных условиях он остался бы животным.
— Боюсь, большая часть населения нашей страны не поддержит такую точку зрения. Не поверят люди, что дефицит благ необходим для их благополучия.
— Возможно, и так. Но когда вы говорите о большей части страны, вы немножко преувеличиваете точность своего представления о ее жизни. Во-вторых, вы знаете, Россия всегда жила в дефиците. Испокон веков, тысячелетия. Дефицит солнца, тепла, дорог, дефицит очень многих вещей, и приспосабливаясь к этим невероятным условиям, народ выжил. Есть замечательная работа Леонида Милова «Великорусский пахарь и особенности российского исторического процесса», где автор анализирует, почему мы такие и что такое русский человек, который работает на земле. И очень многое объясняет. Сохранность и живучесть родового строя, общины и крепостное право, жестокость государства — это все не бессмысленные вещи, а компенсационные механизмы для выживания нации. Я как раз сейчас читал курс лекций в МГУ и многому сам научился, пока готовился к лекциям.
— Говорят, если хочешь понять предмет глубоко, надо начать его преподавать.
— Да, это было замечательно, и молодые люди слушали с интересом, и мне было интересно. Наверное, это очень важно сейчас — постараться понять, почему мы такие, что надо делать, чтобы двигаться вперед.
— Что делать, как вы думаете?
— Мне кажется, надо вернуться к теории малых дел, о которой говорили многие в России, и в том числе Антон Павлович Чехов. У меня много надежд связано с нашей страной. Гораздо больше, чем было пять лет назад, я уже не говорю — десять. Просто в силу того, что я вижу ту дихотомию, тот контраст между нациями, которые получили абсолютное благополучие, и Россией. Я снимал картину про почтальона Тряпицына в российской глубинке, на Севере. Вы знаете, там удивительные люди, они все переживут. И мне лично это дает большую надежду.
«В нашем кино все еще есть желание догнать и перегнать Америку. Хотя перегонять уже нечего».
— Где сейчас ваш дом?
— Я уже восемь лет живу в России, потому что отсюда следить за тем, что происходит в мире, намного интереснее. И еще мне интересно смотреть на то, как смещаются культурные центры. Прежде для нас Европа и Америка были гигантскими магнитами. Сегодня Латинская Америка меня притягивает сильнее. Мексиканские режиссеры в Голливуде делают лучшие картины, латиноамериканский театр делает намного более яркие работы, потому что не отрывается от национальной культуры. И если раньше я ехал в Голливуд, как в Мекку, то сейчас мне маловажно то, что происходит в Лос-Анджелесе. Конечно, там есть талантливые люди, но они не живут в Голливуде! Все лучшие американские режиссеры живут вне его — Коппола, Скорсезе, братья Коэны. А в нашем кино все еще есть желание догнать и перегнать Америку. Хотя перегонять уже нечего.
А вообще, вы знаете, у мирового кинематографа возникло такое впечатление, что язык кино уже изобретен, осталось этим языком рассказывать разные истории. А мне кажется, что так думать преждевременно. Мы еще до конца не поняли, что такое фиксация движущегося изображения, которая сопровождается звуком. Это довольно сложная вещь, я этим озадачился совсем недавно. Вот вы стоите в поле, вы ведь знаете, что сзади вас? А смотрите вы вперед, правильно? Но если я поставлю камеру и буду смотреть вперед, то зритель не будет знать, что за ним. И это интересный феномен, потому что кино навязывает зрителю, куда смотреть, в отличие от театра. И это навязывание накладывает на художника, работающего в кино, колоссальную ответственность.
— Значит ли это, что в фильме «Рай» вы будете говорить со зрителем на новом языке?
— Вы знаете, этот фильм идет на трех языках, французы говорят по-французски, немцы по-немецки, русские по-русски, и я оставлю это, потому что я пытаюсь добиться ощущения документального кино. Вот есть художественные фильмы, а есть документальные, где за жизнью просто подглядывают. А вот как сделать так, чтобы художественный фильм складывался из документальных кадров? То, что я пытался сделать в «Белых ночах почтальона Тряпицына». Сейчас я пытаюсь сложить «Рай» сюжетно, но там очень много состояний... В общем, я могу сказать, что это моя вторая картина в жизни. Первая — это «Почтальон», а вот сейчас вторая. До этого была другая жизнь.






— Связано ли появление нового кинематографического языка с новыми технологиями?
— Вот скажите — книги, написанные на компьютере или гусиным пером, они сильно отличаются?
— Если взять Джойса и Диккенса, и, скажем, Пелевина, они разные ощущения вызывают у читателя.
— Но ведь Джойс мог писать и гусиным пером. Технологии не играют никакой роли, потому что нет ничего дороже человеческого лица. Человек есть мера всех вещей. Если человеческое лицо в кино вас не убеждает, кому оно нужно?

— Вы только что закончили чеховскую трилогию на театральной сцене «Вишневым садом», теперь все три спектакля идут подряд, как вы и хотели изначально. Что дальше?
— Мне надо закончить «Рай», и я уже начал работать над фильмом о Микеланджело. Есть у меня сценарий о Рахманинове. Недавно мы выпустили в театре мюзикл «Преступление и наказание», это очень важная для меня работа, потому что она длилась долго, почти тридцать лет прошло от замысла до воплощения. К тому же это первый мюзикл, который я сделал, прежде я ставил только оперы. Вообще мюзикл — это интересная вещь, не голливудский, а русский. Сейчас я пытаюсь довести спектакль до того уровня, когда неважно, на каком языке поют, когда люди понимают все, что происходит на сцене, и им не нужен перевод.
— Нет ли в ваших планах трилогии по Достоевскому?
— Я не знаю, может быть, я и вернусь к Федору Михайловичу… Но сейчас мне интересен Шекспир, я поставил «Короля Лира» в Варшаве. Мне нужно довести до конца чеховскую трилогию, потому что она еще до конца не дошла. У меня много разных желаний и планов, и слава Богу, что они есть.