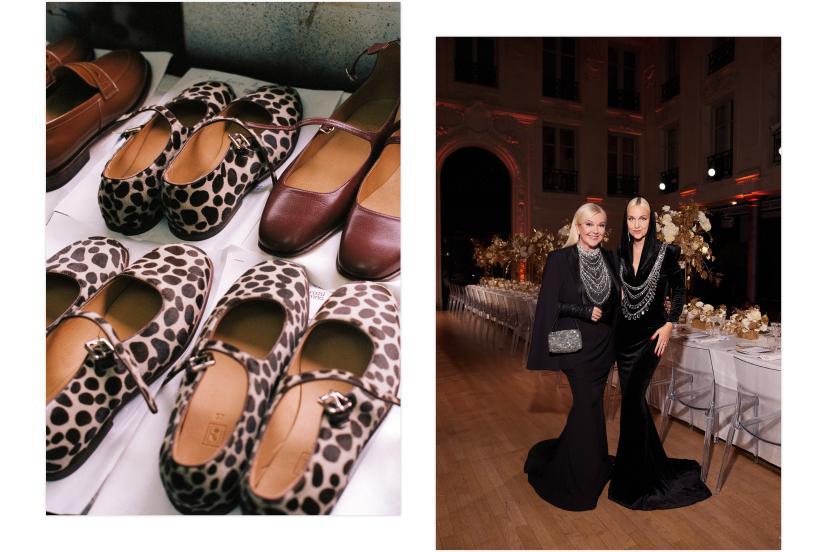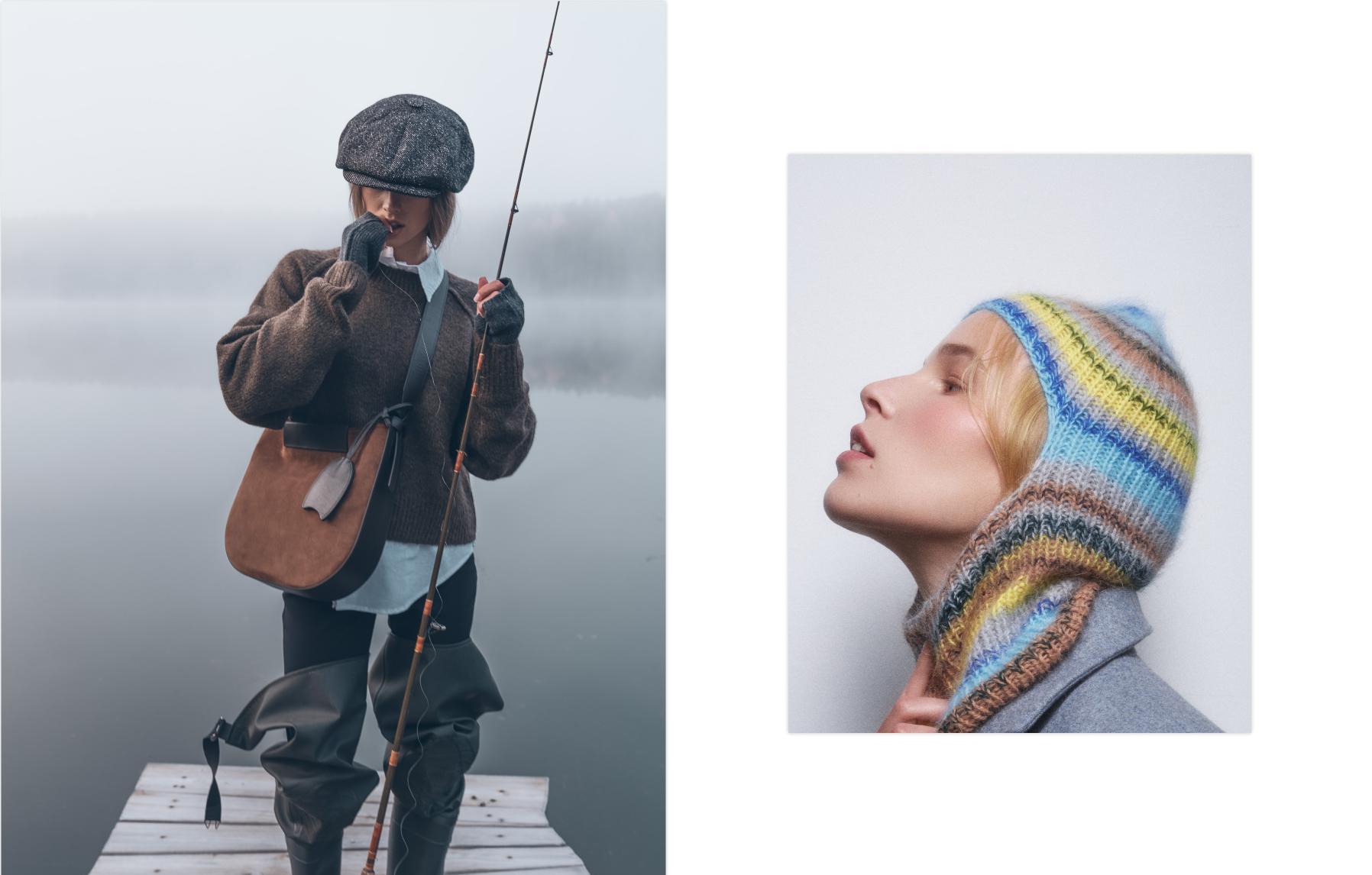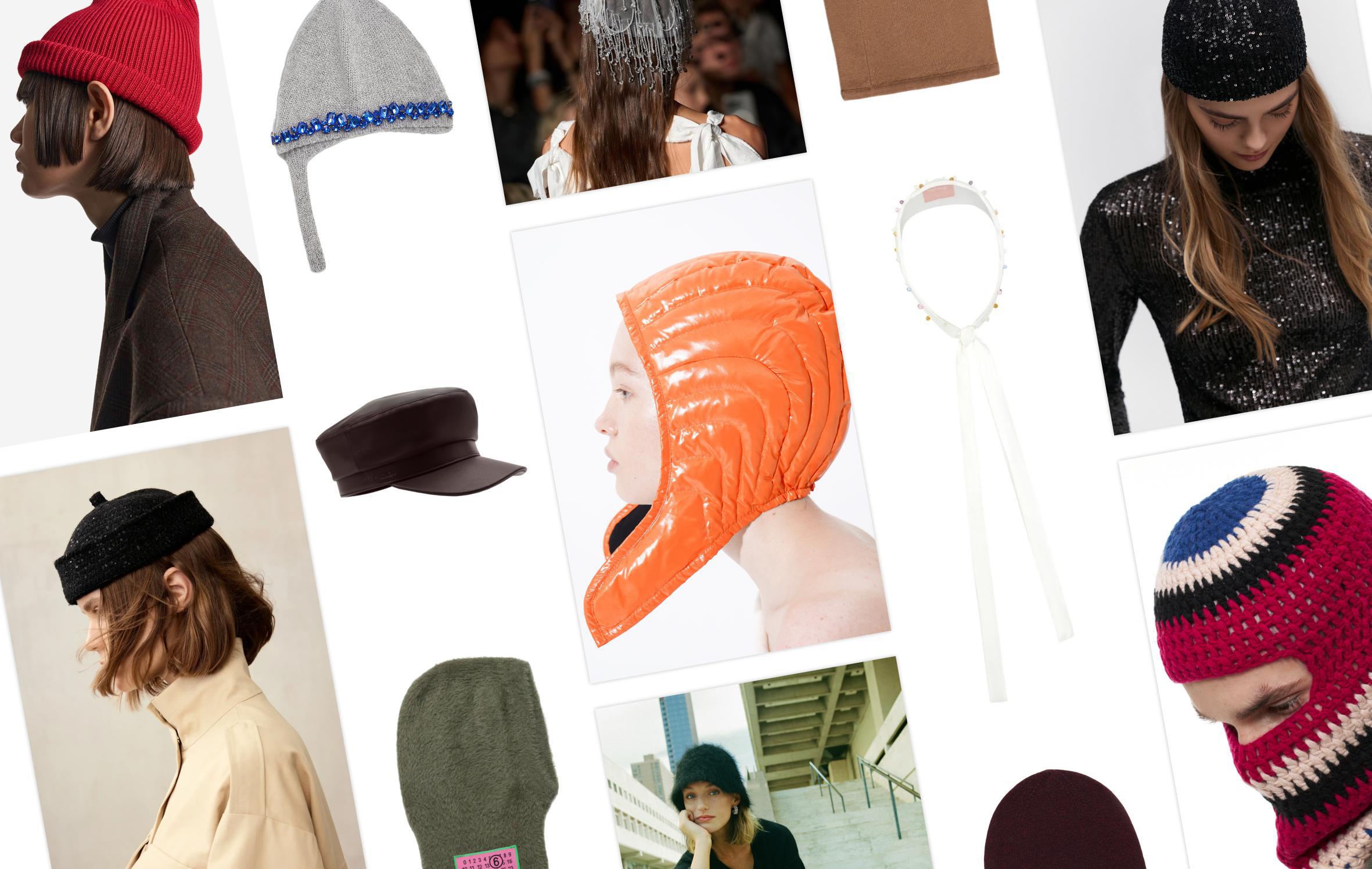Иван Грозный, опиум, одиночество: интервью с автором книги «Тайный год»

— Роман «Тайный год» вышел в финал «Большой книги», он доступен в Сети для читательского голосования. Довольны ли вы этим, и какой эффект от участия в премиальной гонке хотели бы получить?
— Во-первых я рад, что книга получила определенное признание и уже в этом сезоне выиграла «Русскую премию». Конечно, я доволен, что оказался в коротком списке «Большой книги». Но главное, чего мне хотелось бы, чтобы люди увидели Ивана Грозного — этого человека, эту Личность — с той точки зрения, с которой я на нее смотрел. Чтобы то, что я сам узнал об Иване Васильевиче IV, дошло до широких масс. Потому что слишком царь был оболган. Это все идет от традиции иностранных наемников, купцов, которые приезжали в Московию, а потом уезжали на Запад и писали там. Например, Генрих фон Штаден — наемник, опричник, сделал себе огромную карьеру. Он ездил по городам со своими записками о Московии и давал советы королям, как надо бороться с Иваном Грозным. Так вот я бы хотел, чтобы царя увидели с новой стороны: со стороны его писательского и композиторского дарования. Он, например, мог бы содержать гарем из тысячи жен, но на самом деле женился упорно на каждой. И с любимыми женщинами у него были несчастья и проблемы — жен отравляли тогда бояре. В общем хотел бы, чтобы люди увидели этого человека так, как я его увидел.

— Вы упомянули записки фон Штадена о Московии. Насколько я понимаю, «Тайный год» вырос, в какой-то степени, из работы над романом «Захват Московии»?
— Да, дело в том, что когда я писал «Захват Московии» (тогда книга еще так не называлась), мне посоветовали прочесть записки фон Штадена. В «Захвате Московии» речь идет о молодом немце, студенте, который приехал в Москву, о его приключениях. И это было первое соприкосновение с Иваном Грозным, я имею в виду в зрелом возрасте, потому что в студенчестве что мы знали о нем? Писал письма Курбскому, был жестокий, кровожадный, убил своего сына. Вот на этом сведения о Грозном у среднестатистического читателя и кончаются. Я стал его публицистику перечитывать. Пожалуй, именно тогда появилась новая задача, может быть, подсознательно. Я был просто переполнен своими эмоциями, которые во мне породила его проза.
— Вы неоднократно уже даже сейчас сказали, что он был блистательным литератором, публицистом и его проза произвела на вас впечатление. Почему? Он оказался современным?
— Ну вот потому как раз, что он первый публицист. До него писали очень галантные письма. Ему Андрей Курбский говорит: «Что ты пишешь, как мужик. Пиши, как царь должен писать». А Грозный отвечает, что я пишу так, как я хочу писать, пишу так, чтобы до тебя, до твоей тупой башки дошло бы то, что я говорю. То есть это человек, который может для своих целей сочетать различные стили литературы, поднимаясь до церковно-славянского стиля, до Библии и опускаясь до площадных ругательств. Он делает то, чего раньше вообще, может быть, до Пушкина, до современной литературы, никто не смел делать — вводит разговорный язык в сферу эпистолярного общения.
— Тогда спрошу про язык вашего романа. Он невероятно сложный, комплексный. Вслед за своим героем вы пишете и на церковно-славянском, и на языке XVI века, и на очень современном русском. Подражали Грозному?
— Я пытался… Я находился под влиянием его прозы и пытался все свое повествование, то есть все, что связано с ним: его мысли, его размышления, его разговоры — подверстать примерно под его стилистику. И она повлияла на весь роман. Потому что практически весь «Тайный год» о нем, через него даны все события. И естественно, я хотел бы — и я ставил себе такую задачу — чтобы в его мыслях и разговорах проскальзывали те элементы, которые я нашел в его прозе. Тот самый жесткий сарказм, насмешливость, умение слоганы составлять.
Он, например, очень часто повторяет какие-то слова, которые хочет внедрить в читателя. Намеренная зацикленность, закольцованность абзацев. Он начинает какую-то мысль, потом ее разворачивает и заканчивает опять этой мыслью. То есть действует, как современные массмедиа и реклама. Сочиняет специальные слова, какие-то слоганы, которые из своих соображений внедряет в сознание читателя.
Само собой получилось, что те проблемы, которые стояли перед Иваном IV, стоят, может быть, и теперь перед Россией
— За время обсуждения вашей книги, с тех пор как она вышла, я слышала очень полярные мнения от критиков и читателей. И одно из них было высказано на объявлении короткого списка премии «Ясная Поляна». Один из членов жюри сказал: «Невозможно сейчас сделать Грозного нашим современником». Согласны ли вы с тем, что пытались осовременить царя?
— Я не то чтобы пытался, наверное, так получилось, потому что я живу в XXI веке. Что значит пытаться сделать современником? Само собой получилось, что те проблемы, которые стояли перед Иваном IV, стоят, может быть, и теперь перед Россией. Отношения с Прибалтикой, например. Это все уже было там в XVI веке заложено. Швеция пыталась Прибалтику взять — Грозный не отдавал. Новгород пытался уйти в Польшу — Грозный не отдавал. То есть все произошло как бы само собой. Никаких тенденций я сам для себя не формулировал. Я бы сказал, две трети рецензий положительные, одна треть — вот такие. В каких-то рецензиях меня называют русофобом, хотя слово «русский» я вообще в этом романе не употреблял, потому что русские как нация еще в XVI веке не были сложены. Это были московские князья, которые объединили различные княжества вокруг себя. Потом уже появились обозначения и названия. Поэтому мне странно, когда этот роман кто-то считает критическим по отношению к русским. Я народ всегда уважал и буду уважать и любить.
— Иван Грозный у вас получился удивительно человечным, страдавшим от своей любви, от того, что его лишили этой любви. И его жестокость — обратная сторона боли человека, у которого отняли любимую женщину.
— И не одну… Дело в том, что первые 13 лет, которые он прожил с Анастасией — это золотой век русской истории. Практически Грозный продолжил то, что начал Иван Великий, его дед. Он создал кадастр земель, переписал население, создал судебник, по которому еще два века судили потом. Он открывал какие-то школы, просветительские центры. То есть это был человек, который заботился не только о военных или государственных вещах. Он понимал и необходимость развития. Все-таки на Западе шел уже Ренессанс. И царю обо всем этом докладывали. У него была очень развита система послов, посланников, которые обязаны были писать отчеты и привозить ему все новое. Появились, например, часы первые — тут же ему доставлялись. Появилось что-то — тут же ему привозилось. Он прекрасно ориентировался. Грозный вообще хотел с Западом сближаться. Дело в том, что Запад этого не хотел, в частности папская Польша, которая была очень тогда развита и пыталась, так сказать, раздвинуться на восток. Грозному приходилось просто действовать, как он действовал. Первые тринадцать лет было мудрейшее правление, потом его жену отравили... Это ведь выяснилось, когда вскрыли могилу и посмотрели там. И не одну жену. Марию Нагую тоже отравили. Потом Марфа Собакина умерла. То есть это очень принятая тогда была «форма общения». Да и в XXI веке мы тоже видим кое-какие отголоски.

— Когда я ездила с детьми в Александровскую слободу, меня поразило это место. Там как раз чувствуется то, о чем вы сейчас говорили. Человек, который часами молился... Купол этот невероятный со всеми его предками для него одного… Сразу представляешь, как он часами там стоял на коленях, смотрел, думал о серьезных вещах, о милосердии, о справедливости. При этом ему приходилось держать всех в страхе царской рукой. Как вы считаете, все его болезни не от этого ли противоречия?
— Вот это противоречие и лежит в основе моего романа. Как человек я мил, тих, ласков, как христианин я добр и так далее. Но как царь я должен быть злым и жестоким.
— Но тогда постоянное насилие над собой получается?
— Абсолютно, да. Он прожил нелегкую жизнь. И вот после того, как отравили жену, началось самое страшное. Как со Сталиным потом в 1932 году: покончила с собой Надежда Аллилуева — и настали самые страшные годы. То же самое было и у Грозного. Когда его жену отравили, он поднял меч на бояр и на всех, кто в этом во всем участвовал. А то, что его жаль... Мне его постоянно было жаль из-за его одиночества. Пушкин же сказал: «Ты царь — живи один». Иван Грозный ведь так и жил — один. В полном страхе за свою жизнь. Знаете, когда он ходил, у него с детства была повернута голова чуть в сторону — чтобы слушать, что сзади происходит, не идут ли за ним. От этого у него остеохондроз или остеопороз, не знаю, как правильно, на шейных позвонках. Учтите, он с восьми лет один. Отец его умер, когда ему было три года, мать тоже отравили, когда ему было восемь лет. И он в руках этих страшных, звероподобных бояр должен был существовать. Над ним издевались. Когда приезжали посланники из других стран, на него напяливали, как на обезьянку маленькую, всякие бармы (богато украшенные наплечники в торжественной одежде московских князей и царей — прим. ред.) и сажали на престол. А как только уезжали посланники, его тычками сгоняли с этого престола и снова вели себя нагло. У него было очень непростое детство, он постоянно находился в страхе.
— Вы рассказали о детстве царя, и понятно, что вы за эти четыре года узнали о Грозном очень много. Как вы сумели сконцентрироваться именно на этих двух неделях? Как вы к этому пришли?
— Знаете, когда я начал читать материл по Грозному, я понял, что это необъятное море. Писать о нем вообще — невозможно. И я в процессе обработки материала увидел, заметил этот год, когда царь вдруг пропал. Когда он снял с себя царские полномочия, посадил на трон Семена Бекбулатовича и затворился в слободе. И я решил, что самой лучшей сюжетной завязкой будет, если я возьму вот этот год, который он прожил неизвестно где и неизвестно как. И вот это, так сказать, сыграло свою роль.
— Вопрос о болезни. Вы говорите довольно откровенно о наркотическом опьянении царя, об изменении сознания. Это был неожиданный поворот для меня как для читателя. Сразу хочу спросить, откуда вы узнали…
— Когда я был в Александровской слободе, там работали очень заинтересованные, очень компетентные экскурсоводы. И вот экскурсовод в процессе рассказа показывает нам какое-то помещение и говорит: «А вот сюда привозили товары». Спрашиваю, какие? Чай, опиум и еще что-то она перечислила. И когда я у нее спросил насчет опиума, она рассказала, что он очень любил острое и соленое, и из-за этого у него начались подагры и прочие боли. Понимаете, Грозный не то что наркоман, он просто человек, который из-за болей начал принимать вот эти болеутоляющие препараты того времени, потому что другого не было. И до сих пор, кстати, другого нет. Все обезболивающие в итоге основываются на опиуме. Я уверен на много процентов, что он это знал. Насколько он был в этой ситуации глубоко, я не знаю, но у меня это опиумное лихорадочное состояние показано как рецидив. Несколько дней он провел в нем, но потом вышел и жил дальше. Я не делал на этом акцента. Просто даю как эпизод.
Работа над Грозным, безостановочное нахождение в этом мрачном XVI веке, оно на меня повлияло, я бы сказал, не в лучшую сторону
— Есть фигуры, за которые опасно браться, есть романы, которые опасно экранизировать — они как-то влияют на человека. Вы четыре года прожили с Грозным внутри. В вас что-то изменилось?
— Во мне много чего изменилось. Во-первых, я перенял все его болячки. После того, как я четыре года писал о том, что у него крутит ноги и спину, на меня все это перекинулось. Во-вторых, после того, как я сдал этот роман, я оказался в такой пустоте. Я чувствовал опустошение, мне казалось, что я лишился какого-то покровителя, какого-то друга, с которым я провел четыре года. И это все на меня очень повлияло — у меня начались явления депрессионные. В общем, меня это перелопатило. Работа над Грозным, безостановочное нахождение в этом мрачном XVI веке, оно на меня повлияло, я бы сказал, не в лучшую сторону.
— А вы работали во время написания романа в основном в одиночестве?
— Вы знаете, для того чтобы писать первую болванку текста, мне необходимо полное одиночество и молчание. И я приспособился ездить в Испанию в одно маленькое местечко, где снимал комнату. И туда я уезжал без всяких средств связи, без телефона, без интернета. И там писал тот объем, который мог за две-три недели. Это где-то выходило по сто печатных страниц, скажем так. И потом, когда я возвращался в Германию, я текст обрабатывал. Потом еще раз. В общей сложности я четыре раза уезжал. И за четыре раза написал первый текст. Но обработки уже шли потом. То есть для меня это необходимое условие: одиночество и молчание.
— Получается, вы берете все материалы, которые есть, и едете?
— Я беру не только материалы, я беру маленький компьютер, беру все, что мне надо, все материалы. Благо, туда идет автобус из нашего города. Я еду туда и пишу. И тут же пытаюсь переносить, если успеваю, все написанное на компьютер.
— Вы пишете от руки?
— Я пишу от руки. Как и писал всегда.
— Фантастическая работоспособность…
— Вы знаете, письмо от руки дает возможность мысли оформиться. Пока рука производит вот эти движения, мысль работает более четко. Когда стучишь на машинке или на компьютере, отвлекаешься на сам этот процесс.
— У вас в романе действуют слуги. Их кулуарные обсуждения, личные разговоры вам для чего потребовались? Оттенить фигуру царя?
— Они потребовались, чтобы дать взгляд на него со стороны. Потому что слишком монотонным выходило повествование без этого. Это во-первых. А во-вторых, мне нужно было показать синодики и списки опричников в романе. А как это сделать? И я решил создать двух слуг, которые обсуждают все на свете и пишут вот эти синодики. А синодики и списки опричников я специально хотел поместить в роман, чтобы люди хотя бы просмотрели фамилии убиенных и фамилии их убийц, чтобы это осталось как-то закреплено в тексте.
— В Ватикане в Соборе святого Петра есть выбитый на мраморе список всех пап с 70 года нашей эры. Это как раз один из тех списков, которые тебя поражают уже тем, что существуют. Вот и ваши списки такое же ощущение производят. Видишь их — и понимаешь масштаб истории.
— Да, хотя бы видишь… Для меня это было важно. Я специально сам прочел очень внимательно. Меня очаровали эти древние имена, древние фамилии, как они звучат. Я хотел дать читателю возможность хотя бы просмотреть их. Ну и отсюда в симбиозе родились вот эти слуги, с чьей помощью я передаю какие-то комические вещи, сценки, чтобы немножко дать читателю разрядиться от этого мрачного XVI века.

— Кого из ныне живущих писателей или, может быть, недавно ушедших, вы считаете яркими стилистами? Кто для вас авторитет?
— Я очень любил Юрия Мамлеева, недавно ушедшего. Сказать, что я очарован чьим-нибудь языком сегодняшним, я не могу. Все пишут… Я бы вообще уклонился от этого вопроса, потому что я многих писателей знаю лично, дружу с ними. Если я кого-то назову, это будет неправильно. Конечно, есть люди, которые очень хорошо работают. Но мне кажется, что тенденция к переносу современной разговорной речи на бумагу не очень продуктивна. Потому что разговорная речь — это речь улицы. Все-таки писатель должен эту речь как-то оформлять и делать ее поэтичнее, я бы сказал. Вот сегодня я говорил с одним молодым автором, который написал повесть, и на каждой странице у него какое-то нецензурное слово. И когда я сказал: «Зачем тебе это?», он ответил: «Они же так говорят». Ну и что, что они так говорят. Ты же должен речь опоэтизировать. Ты же не пишешь репортаж журналистский. Ты пишешь прозу, художественную, значит язык должен не передавать все досконально. Тогда для чего нам литература? Можно выйти с диктофоном на улицу, записать разговор в очереди и напечатать, вот и будет… Но это Сорокин уже сделал на самом деле. У него же есть рассказ «Очередь».
— Тут можно и Светлану Алексиевич вспомнить.
— Да, Алексиевич, конечно, только на другом уже уровне. Да, она тем же самым занималась. Но это совершенно особый жанр.
— Студентам своим, когда они спрашивают, нужна ли современной литературе обсценная лексика, я привожу Пушкина в пример. У него в эпиграммах можно найти все что угодно, но это не значит, что в «Капитанской дочке» то же самое будет.
— Да, чурались этого люди. И правильно делали. Ну вы знаете, в 90-е годы это была мода, как раз Сорокин когда начинал. А потом как-то приличные люди с этим завязали, они уже не употребляют эту лексику. Мне мат режет слух. Конечно, может быть, иногда и требуется крепкое словцо, один-два раза за весь роман, тогда оно сильнее сыграет. Но это должно быть осознанно сделано. Кстати, в романе «Тайный год» у меня бранных слов нет, потому что в то время их просто не существовало в том виде, в каком они сейчас существуют. И перед выходом книги я спросил, а зачем надо писать на обложке 18+, если там у меня нет брани. А сказали — нет, есть слово «выблядок». И производные от него. Ну вот из-за этого слова написали 18+ и закатали в пластик, и люди не могут просмотреть книгу. А ведь чтобы книгу купить, нужно просмотреть, полистать ее.
— Тут премия «Большая книга» как раз играет вам на руку, потому что текст выложен в открытом доступе, можно его пролистать, а потом купить. И на самом деле многие так и делают, потому что все равно предпочитают читать на бумаге.
— Сейчас будет переиздание романа «Тайный год». Он выйдет в другой серии — «Современная русская классика». Будет новая обложка. Будет тот же силуэт, но на белом фоне. И это очень сильно на восприятие влияет, хорошо.
— Слушаете ли вы музыку, когда работаете? Мне кажется, что этот текст, помимо того, что на него публицистика Ивана Грозного повлияла, очень музыкальный.
— Хороший вопрос. Я все время работаю под музыку, когда я пишу первые тексты. Пробовал разную — дошел до итальянских опер и на этом остановился.
— Наверное, итальянского вы не знаете?
— Итальянского не знаю, но мой отец был большой любитель итальянских опер, и я вырос практически под эту музыку. Она мне дает возможность мыслить и писать. Но когда я правлю, я иногда включаю Black Sabbath, например, когда мне нужен жесткий эпизод. Или Deep Purple. Я очень люблю рок-музыку, я вырос на ней. Вот когда я правлю и работаю над уже написанным текстом, тогда я могу себе позволить слушать разные вещи. Но первый вариант я пишу под итальянскую оперу, и она меня приводит в равновесие.
— Это чувствуется по тексту, он очень музыкальный в целом.
— Может быть, потому что музыкальность создается и музыкальностью слов. Я, конечно, языку посвятил здесь намного больше места, чем сюжетам. Сюжеты там мелкие. И потому я ограничился двумя. Я бы мог написать и весь год по дням, но тогда было бы не тысяча страниц, а 25 тысяч. Просто когда я очнулся и поднял голову, я увидел, что написал тысячу страниц. И надо было ставить точку.