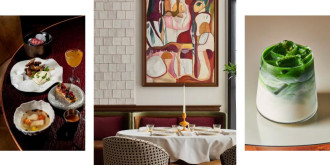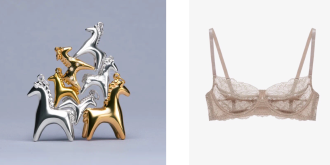Писатель Давид Гроссман — о стендапе в Израиле и притягательности зла

Дов Гринштейн — герой романа «Как-то лошадь входит в бар» — стендап-комик, который устраивает зрителям сюрприз в свой день рождения. Сначала на публику, собравшуюся в баре курортного городка Нетанья, обрушивается поток неполиткорректных шуток, а затем артист изливает душу. Он вспоминает о трагическом инциденте, который случился с ним в юности: находясь в военном молодежном лагере, парень узнал, что умер кто-то из его семьи, и отправился на похороны. Правда, подростку так и не сказали, кто погиб — мама или папа. И это изменило его жизнь.
Жюри Международной Букеровской премии назвало книгу рискованной как с эмоциональной, так и со стилистической точки зрения: «Каждое слово ценно в этом высочайшем примере писательского труда». Кроме «Лошади» Гроссман опубликовал больше десятка книг, переведенных на 36 языков, — в том числе подростковый роман «С кем бы побегать», ставший международным бестселлером. На минувшей ярмарке Non/fiction Елена Кузнецова обсудила с писателем силу фантазии, всепроникающий страх и смех как возможность дышать.
— Вы начинали как журналист, а позже стали писателем. У многих журналистов есть психологический блок, связанный с фантазией, — им легче рассказывать чужие истории, чем придумывать свои. Как удалось это преодолеть?
— Я с детства чувствовал себя писателем: у меня хорошо работало воображение, я любил придумывать истории. Так что журналистика не была моей дорогой. Я больше 20 лет проработал на радио, а когда меня уволили по политическим причинам (Давид Гроссман отказался молчать, что Палестина заявила о создании собственного государства — «РБК Стиль»), легко и с энтузиазмом вернулся к прозе. Я до сих пор иногда выступаю со статьями, эссе, речами, но пишу их именно как писатель. Вы правы, у журналистики и литературы разный язык. Как писатель я ориентируюсь только на одного читателя, обращаюсь к нему на индивидуальном уровне. Журналистика апеллирует к массам.
— Вы представляете себе какого-то конкретного человека, когда пишете?
— Наверное, я вас разочарую, но мне кажется, писатель пишет для себя. Это очень эгоцентричная работа. Но — сам до конца не понимаю, как это происходит — если ты копаешь глубоко внутрь себя, это затрагивает и других.

— У героя «Как-то лошадь входит в бар» есть прототип, но его историю вы узнали в сокращенном, схематичном виде. Как вы восстанавливали все «эмоциональное путешествие» персонажа?
— Сложно сказать, где проходит граница между реальностью и прозой, но здесь она видна очень четко. Однажды я услышал историю о 14-15-летнем мальчике, который приехал из Иерусалима в молодежный лагерь на юге страны (имеется в виду лагерь Гадны — израильской организации, которая готовит подростков к военной службе. — «РБК Стиль»). Примерно через неделю к парню пришел командир и сказал, что он должен срочно, в течение четырех часов, вернуться домой, чтобы успеть на похороны. Кто умер, мама или папа, подростку никто не сообщил. По пути мальчик вообразил, что именно на нем лежит ответственность выбрать, кто из родителей умер, а кто остался в живых. И это, конечно, стало невыносимым грузом, травмой на всю жизнь.
Меня буквально истерзала эта история, я думал: «Как могло случиться, что люди были так равнодушны к ребенку, его горю и агонии? Как они смогли отправить его одного?» Так появился сюжет, но я не знал, как воплотить его. Я не собирался описывать этого конкретного человека, хотел изобрести своего собственного героя. Я думал об этом годами, и вот неожиданно герой появился. Если вы спросите меня, как это происходит, я не смогу ответить. Иногда идеи и образы возникают во сне, в беседе с другом или просто потому, что ты мельком увидел на улице профиль какого-то человека. Будто по щелчку пальцев появляется персонаж. И все, что дальше нужно сделать, — это не пытаться им завладеть, а позволить ему завладеть тобой.
Когда я писал «На край земли» — роман о матери, которая пытается спасти жизнь сына, отправленного на войну, — образ главной героини мне не давался. Я не видел ее, не знал, как писатель должен знать своих персонажей. А потом сел и написал ей письмо — от руки, на бумаге и в конверте: «Дорогая Ора, почему ты ведешь себя так? Почему ты так упряма? Почему ты не сдаешься мне?» Когда я сделал это, то понял, каким глупым был. Это не Ора должна была сдаться мне, а я ей, мне нужно было услышать голос этой женщины внутри себя. И после этого Ора буквально сама написала себя. Мне оставалось просто не мешать.
— Ваш герой — стендап-комик, но вы в интервью и текстах обычно кажетесь серьезным. Как у вас с чувством юмора и о чем вы обычно шутите?
— До того, как начать писать «Как-то лошадь входит в бар», я знал всего два-три анекдота, а теперь в моей коллекции их больше пятидесяти. После выхода книги люди стали присылать мне шутки с просьбой включить их в новые издания. Но шутить и иметь чувство юмора — не одно и то же. Мне кажется, что оно у меня есть, и те, кто знает меня, наверняка это подтвердят. Только если я сейчас попытаюсь это доказать, то поставлю себя в неловкое положение. Я честно не знаю, как можно выжить без чувства юмора: иногда смех дает возможность дышать.
— А в чем разница между шутками и чувством юмора?
— Она не обязательно есть. Но у меня аллергия на людей, которые с одержимостью шутят о чем угодно. Мне кажется, они делают это специально для того, чтобы скрыть, что чувства юмора у них нет.
— Насколько распространен в Израиле политический юмор?
— Недостаточно. Выпускаются только одна-две хорошие сатирические телепередачи, а стендап-комики почти прекратили шутить на политические темы, особенно о правительстве или премьер-министре Нетаньяху. Они знают, что могут лишиться заработка из-за этого, страх парализует их и мешает быть остроумными и колкими. Большинство стендаперов в Израиле, и не только у нас, предпочитают удобные шутки — что-нибудь о теще или о мигрантах — шутки, которые ни в коей степени не опасны и никому не угрожают.

— Это очень напоминает ситуацию в России. Вы, кстати, недавно говорили о постоянном страхе, который испытывает израильтянин у себя дома или на улице. Вы чувствуете что-то похожее в Москве?
— Знаете, я здесь провел всего 24 часа. Меня забрали из отеля и повезли в ГУМ через Красную площадь — тут сложно что-то говорить о страхе. Но я приезжал в Россию десять лет назад. Был декабрь — холодно, серо. Я смотрел на людей, которые шли на работу в 6 утра, и они выглядели такими уставшими и разбитыми. В этом чувствовалась такая безнадежность! Сейчас улицы — с потоком туристов, новогодними украшениями — выглядят по-другому, и москвичи кажутся более уверенными в себе и энергичными. Но не пытайтесь поймать меня на слове — это очень ограниченные туристические впечатления.
— В вашем романе встречается несколько шуток о Холокосте. Насколько это приемлемо в современном Израиле и насколько этично включать такие шутки в литературное произведение?
— Мне кажется, главный принцип заключается в том, что над любой ситуацией можно посмеяться. Эта свобода, как и свобода критиковать, абсолютно законна — иначе нам придется цензурировать и другие, более важные вещи. Кстати, те, кто был в концентрационных лагерях, тоже шутили, в том числе и о Холокосте. И мы в детстве шутили про Катастрофу, и это ни капли не уменьшало нашу боль. У каждого есть право делать так. Но тем, кто не имеет отношения к Холокосту, шутить о нем нетактично. Не нужно запрещать этого делать, такие люди сами должны себя ограничить.
— Как израильское общество отреагировало на роман и на эти шутки?
— Израильтяне не делали различия между романом и шутками, потому что это книга о шутках и о юморе, спасающем жизнь. Я не слышал ни одного возражения, «Лошадь» очень хорошо приняли. С тех пор, как книга завоевала международного Букера, она стала еще популярнее в Израиле. Люди говорили, что роман многое говорит о них самих и стране, о тяжести нашей ситуации. Признавались, что хорошо понимают и главного героя, и гостей, которые покидали его шоу. Они знают, как это болезненно — слышать правду, когда ее бросают в лицо.
— Я живу в Петербурге, где есть свой Холокост — блокада Ленинграда. Для россиян эта тема до сих пор табуирована. О ней не то что шутить не принято, но и писать, а иногда — говорить. Почему у разных народов складывается разное отношение к исторической памяти?
— Конечно, у разных наций исторически формируются разные травмы. Но я могу говорить только об израильских евреях и евреях в целом. Как вы понимаете, у нас особенная история — четыре тысячи лет преследований и антисемитизма. Быть евреем значит никогда не иметь дома — вот что ты чувствуешь. И этому сопутствует страх, что у тебя нет будущего.
Мы хрупкие, в нашу сторону направлено так много агрессии. Этот опыт продиктовал особенности нашего мышления — мы чувствуем себя жертвой. Мы даже впали в зависимость от идеи, что обречены быть жертвами всю жизнь, как и наши потомки. Я думаю, это неправильно. Мне кажется, у народов есть «нормативные» истории — то, что их идентифицирует и объясняет их значимость. Такие истории очень важны на первых этапах становления государства и общества. Так же и у каждого человека есть свои «нормативные» истории, которыми он делится с новыми знакомыми. Но бывают моменты, когда ты просыпаешься и спрашиваешь себя: а эти истории еще хоть что-нибудь значат? Они правдиво говорят обо мне сегодняшнем? Может быть, я достиг какого-то совершенно нового этапа жизни и заключен в тюрьму старых историй? Может, стоит освободиться от них, чтобы рассказать что-то другое и стать более свободным человеком? Если ты решишься на это, то сможешь сделать вещи, которые раньше себе запрещал.
— Это точно характеризует главного героя «Лошади», который снимает маску жизнерадостного комика и рассказывает о своей боли.
— И не только его. В каждой книге я стараюсь сделать «массаж» старым историям — нарративам о супругах, родителях и детях, братьях и сестрах, друзьях. Такие истории обычно «заморожены», «парализованы», и я вот пытаюсь «размять» их. Наверное, я даже в большей степени массажист, чем писатель.
Мне кажется, главный принцип заключается в том, что над любой ситуацией можно посмеяться. Эта свобода, как и свобода критиковать, абсолютно законна.
— Ваш герой в подростковом возрасте пережил серьезную травму, которая сформировала его как личность. У вас в детстве был подобный опыт?
— Если он и был, я не хотел бы этим делиться. Да и вообще это не обязательно должна быть определенная большая травма. Иногда достаточно того, что ты просто ребенок и понял, что люди смертны. Я живо помню одну вечеринку в доме родителей. Мне было меньше четырех лет. Пришло много взрослых, они танцевали под музыку, пили вино, а я бродил среди их ног. И вдруг я понял, что все они умрут, и будто оказался в другом измерении. Я разрыдался, мама забрала меня в ванную, успокаивала и спрашивала: «Что с тобой? Ты упал? Ты что-то съел?» А я не мог ничего ей ответить, потому что был уверен, что, если скажу правду, она тоже умрет.
— Дов Гринштейн — одновременно и положительный, и отрицательный персонаж. В литературе XXI века злодеи получают все большее значение, да и не только в литературе — взять хотя бы «Джокера» Тодда Филлипса. Почему это происходит?
— Мир превращается во все более непредсказуемое и небезопасное место — взять хотя бы «Аль-Каиду» и преступления, которые она совершила. Неудивительно, что злодеи становятся более привлекательными. Но не забывайте, что антагонисты были и в греческих трагедиях, и в пьесах Шекспира, и у Достоевского в «Братьях Карамазовых» и «Преступлении и наказании». Все художники ранены в область моральных принципов — мы можем быть очень моральными, но в то же время испытываем притяжение к аморальности. Моралью часто прикрывают трусость, компромиссы, страх быть другими. А художники увлечены изгоями, людьми, которые не боятся быть другими и позволяют себе переступить через какие-то границы.
— А не получается, что мы идем по скользкой дорожке сочувствия злу?
— Если мы будем обличать зло, даже не думая о нем, это не приведет к результату. То же самое произойдет, если воспринимать мораль как некую заранее и механически установленную конвенцию. Мораль не так сильна. Но будет сильнее, если мы разрешим себе подвергнуться воздействию того, что делает человека дурным. Это не значит, что мы должны поддерживать или оправдывать такие ценности.
— До выхода «Как-то лошадь входит в бар» вы были почти неизвестны в России, хотя и сейчас многие не слышали о вас. А в англоязычных странах Давид Гроссман — настоящая знаменитость. Вы понимаете, как формируется ваша известность в разных частях света и от чего это зависит?
— Мне кажется, тут некий круг: чем больше ты известен, тем чаще твои книги переводят на разные языки — и тем более ты становишься известным. В действительности я не задумываюсь об этом — поверьте, не так уж и плохо быть неизвестным. По крайней мере, любое твое появление на улице не превращается в шоу.
— На ярмарке Non/fiction вы пообщались с российскими читателями. Как прошла встреча?
— Знаете, я часто сижу в своей комнате под Иерусалимом, пишу и чувствую себя одиноким. Поэтому любая встреча с людьми, которые любят и читают твои тексты, согревает сердце. Когда я написал «Книгу внутренней грамматики» — роман о маленькой семье в Израиле 1960-х годов, которая очень напоминает мою семью — отец спросил меня: «Ты думаешь, это кому-то будет понятно, кроме нас?» С тех пор вышло много других моих книг, они переведены на разные языки, но перед каждой публикацией отец спрашивает то же самое.