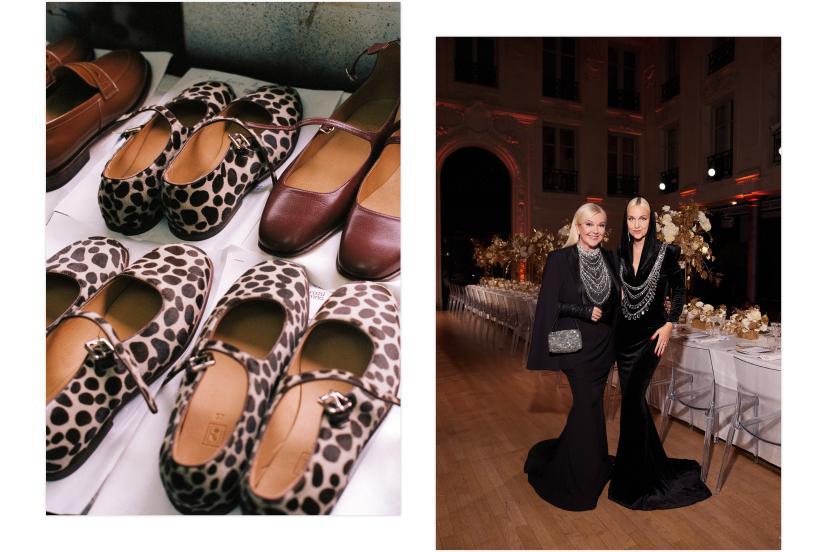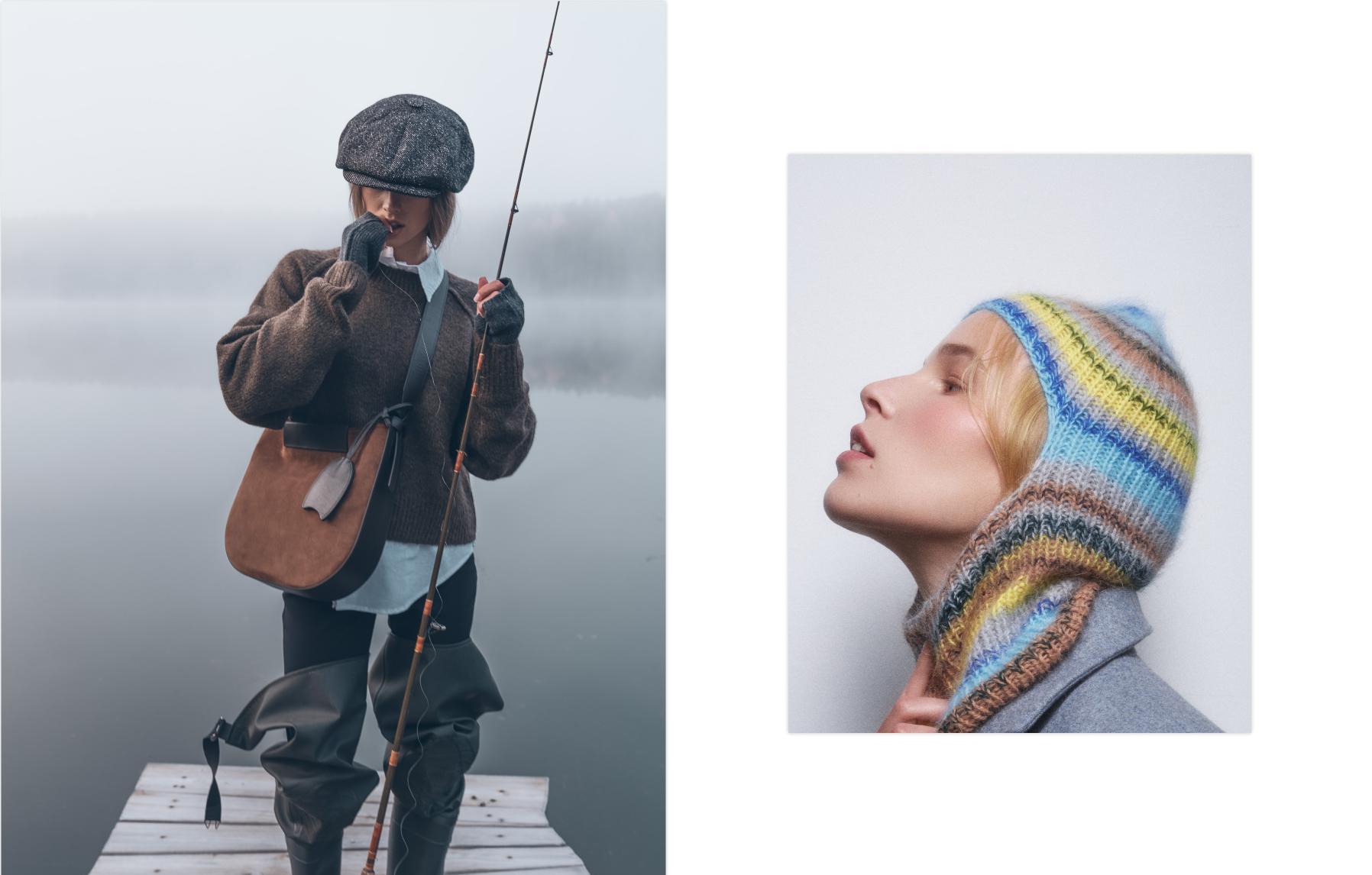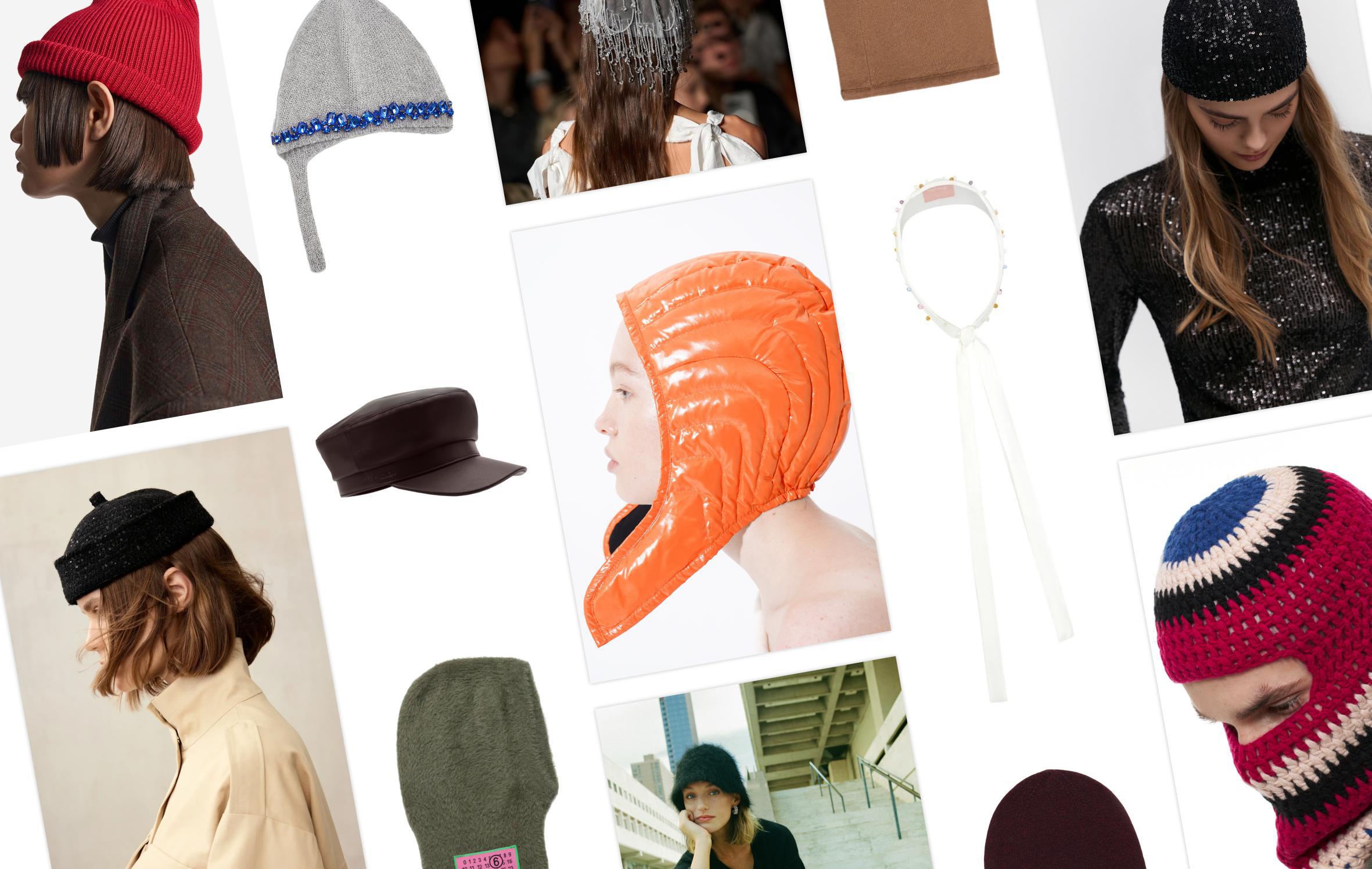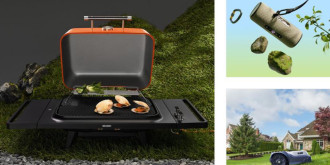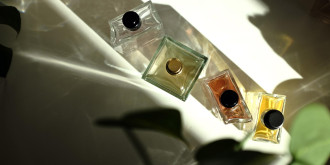Дина Рубина: «Среди писателей я редко встречала абсолютно нормальных людей»

Мы встречаемся с Диной Рубиной на студии звукозаписи «Вимбо», где она начитывает аудиокниги по своим текстам. Интервью начинается неожиданно: писательница предлагает ничего не записывать. Она выглядит несколько уставшей — слишком много официальных встреч в связи с выходом нового романа: «Мне иногда присылают на визу тексты, в которых сплошные междометия, приходится переписывать». — «Не знаю, что за материал получится, — говорю я, — но междометий в нем точно не будет».
— Ваша трилогия посвящена нашему времени и нашим современникам. При этом название «Наполеонов обоз» отсылает к истории, к 1812 году. Насколько сильным будет исторический или наполеоновский контекст романа?
— Это будет, скорее, декорационный контекст. Кажется, О'Генри говорил, что любой писатель завлекает своего читателя в разные придорожные кусты и таскает там до тех пор, пока не выговорит все, что лично ему интересно. Огромное тело трехтомного романа не может существовать без закулисного направляющего сюжета. События наполеоновского нашествия отражаются в романе: паническое бегство Наполеона, трагическая ситуация, в которой оказались и французские, и русские солдаты. Эти события описаны не буквально, а через записки некоего человека, адъютанта вице-короля Италии, принца Евгения де Богарне, сопровождавшего знаменитый золотой обоз Наполеона, — тот самый, который, как считают историки, бесследно исчез. Но главный герой романа Сташек Бугров — наш современник, потомок того самого адъютанта и переводчика Аристарха Бугеро. В центре романа — его жизнь, невероятная любовь, которая проходит через все три книги. Он, его возлюбленная Надежда и деревенский житель Изюм — вот главные персонажи трилогии. Но это еще и трагический роман о нас всех.
— В «Рябиновом клине» есть карикатурный образ писательницы Калерии Чесменовой. Это только мои впечатления или вы создавали персонаж гротескным? Вам близко, скажем так, писательское комьюнити или стараетесь находиться на дистанции по отношению к нему?
— Знаете, а я-то ничего карикатурного в этом образе не вижу: речь идет о невероятно талантливой писательнице, которая имеет право быть кем угодно, в том числе и карикатурой на себя. Если бы вы застали меня в домашних условиях, то еще не то увидели бы. Помните Флобера? «Госпожа Бовари – это я». У Чесменовой можно найти черты самых разных реальных людей, в том числе и мои. Важно то, что это — выдающаяся писательница, которая в глазах окружающих выглядит безумной. Но среди писателей я редко встречала абсолютно нормальных людей. Если вы сейчас скажете мне в глаза, что я тоже не вполне в порядке, я с вами соглашусь. Человек, создающий свои миры, не может быть полностью адекватен реальному миру. Чесменова лишь один из писательских типов, представленных в книге (ведь моя героиня Надежда Петровна — редактор, ей приходится иметь дело именно с известными писателями, с «брендами»), есть там еще Михаил Калинник — совсем другой тип, но тоже вполне дикий. Есть типчик, пишущий эротические детективы под женским именем… И так далее. Что касается писательского комьюнити, то его попросту нет. Писатель всегда и всюду существует в единственном числе – если взглянуть на это дело глазами самого писателя. Тот, кто создает литературные тексты, Автор – это центр вселенной… плюс те вымышленные вселенные, которые он создает. Есть, конечно, какие-то союзы, пен-клубы, просто клубы вроде ЦДЛ, где раньше сидели писатели, выпивали, общались: «Старик, ты гений, — Нет, старик, это ты гений». Но на деле писатель общается либо с самим собой, либо с классиком, который давно умер и потому не опасен: с ним попросту нечего делить.
— Чувство конкуренции мешает общению?
— Это не совсем конкуренция. Это просто невозможность видеть рядом с собой кого-то еще. Это даже не эгоцентризм, а абсолютный центризм той творческой вселенной, которую представляет данная личность.
— Есть автор-демиург и все остальные?
— Именно так. Понятно, что писатель – это человек, у него есть семья, он, — безусловно, живет в социуме. Встречается с разными людьми, читает рукописи коллег, пишет к ним предисловия или послесловия. Но когда остается один на один с собственным творческим миром, то существует в нем в единственном числе. Есть огромное количество талантливых людей, создающих яркие, неожиданные, новые миры. Каждый из них — это иссушающая пустыня бесконечной неудовлетворенности самим собой, невроз, подавленная истерия, дурной характер, беззащитность перед лицом реального мира. Иногда просыпаешься ночью и понимаешь: ты — полный ноль. Я могу много и долго говорить об этом странном существе, что носит гордое имя «писатель». Пишет он тоже по-разному. Если это не племенной бык, издающий по роману в год, то это может быть автор одной книги. Или двух-трех, как, например, блистательный польский писатель Марек Хласко. Он написал роман «Красивые, двадцатилетние» и еще несколько повестей. Спился до подкладки нервной системы, умер в 36 лет. А писатель дивный.
Человек, создающий свои миры, не может быть полностью адекватен реальному миру.
— Павел Улитин определял свою прозу как «коньячные ритмы». С каким алкогольным напитком вы могли бы сравнить свою?
— Никогда не думала о своей прозе в алкогольных образах. Я вообще человек непьющий, ну, могу позволить себе бокал пива. Здесь недалеко есть замечательная пивная, там, кстати, подают к пиву чесночные гренки, которые я очень люблю. В общем, не могу сказать, что много думаю об алкоголе. Эта текучая субстанция не слишком к моей прозе применима. Скорее, музыка все-таки. Я по образованию — музыкант и часто во время работы мыслю в музыкальных категориях. Экспозиция, кульминация, финал… Форма рондо, форма сонаты, болеро, многочастная форма.
— Если подбирать аналогии с музыкой, вы пишете классический джаз или фри-джаз? Что для вас органичнее — продуманная структура с элементами импровизации или импровизация с элементами структуры?
— Скорее, классический джаз. Я очень люблю форму и терпеть не могу растекающиеся структуры. Когда я приступаю к работе, то уже мыслю в структурных, формообразующих категориях. Если упомянула какого-нибудь персонажа в тексте, то бросить его не могу, у меня ответственность даже перед самыми незначительными, самыми проходными героями.
— Вы идете за текстом или текст — за вами?
— Однозначно я всегда иду за текстом. Другое дело, что, будучи по натуре человеком властным и организованным, умею подчинять себе текст. Мой отец был художником, рисовал портреты сомовского плана, очень точные. Он был привержен форме, так что это я переняла у него. Но тем не менее невозможно формой задавить живую материю, жизнь. Я ведь создаю героя, и он должен жить, двигаться. Тут надо сказать вот что: ни у одного писателя нет бесконечной галереи героев. Даже если мы возьмем очень пестросюжетных писателей, например Зощенко: у него много разных типажей, но и они повторяются. Или у Достоевского: все женские образы — либо Неточка Незванова, либо Настасья Филипповна.
— А все женщины Тургенева – вообще один тип.
— Совершенно точно. У меня тоже существует несколько типов героев, к которым я привязана. И зачастую это люди действия. Яркие профессионалы в какой-нибудь области. Мне не нравятся статичные, вялые, робкие персонажи. Я, например, никогда бы не смогла создать героя книги «Искренне ваш Шурик» Люси Улицкой, которую очень люблю и ценю. Просто это абсолютно не мой персонаж. Мой Шурик обязательно зарезал бы кого-нибудь в финале. Мой герой так и норовит свернуть на тропу криминальных намерений или искушений. Это либо Леон из «Русской канарейки», либо Захар Кордовин из «Белой голубки Кордовы». В общем, это человек беспокойный и дерзкий. Странный, не всегда объяснимый. Мне вообще нравятся странные люди.
— Хемингуэй садился писать рано утром, Бальзаку требовалось чуть ли не 50 чашек кофе в день. Гете вообще бы не написал «Фауста», если бы не погребок Ауэрбаха и сосиски, которые ему там подавали. Какие у вас ритуалы как у писателя?
— Знаете, вообще-то, по характеру я — консерватор, человек устойчивых жизненных планов и привычек. Люблю заранее что-то наметить и терпеть не могу, когда у меня рассыпается нечто задуманное — в быту или в работе. Поэтому работаю только утром. Очень рано. Встаю в пять, пять тридцать, иду гулять с собакой. Собака для меня — жизнеобразующее повседневное начало. Прогулка с собакой, кофе и потом работа. Сейчас я быстрее устаю, а раньше могла сидеть 16 часов за компьютером без перерыва. Я очень рабочий человек по своей натуре.

— Мы все острее переживаем девальвацию слов. Сэмюэл Беккет почти полвека назад написал пьесу без слов. Постдраматический театр отказывается от текста. Слова повсюду, различные медиа фонтанируют ими, поэтому доверие к слову снижается. Как вы переживаете этот конфликт, требует ли он от вас как от писателя качественно новых усилий?
— У любого вида искусства свой материал. Скажем, театр может обходиться без слов, но литература — нет. Нельзя построить здание без того, чтобы оно было зданием. Конфликт, связанный со словами, был всегда. Существует ведь проблема не только слова, но и проблема формы, художественных структур. Как-то мне попался двухтомник писателей, современников Чехова. Никого из них сейчас невозможно читать, они бесконечно устарели. Чехов же создал абсолютно новую форму и новый язык, на котором мы сегодня разговариваем. Ну разве что слово «круто» он не употреблял. Но это живой, современный русский язык. Знаете, единственный способ прожить долго — стать стариком. Единственный способ для писателя написать талантливую вещь — написать ее словами. И дело не столько в отдельных словах, сколько в их сочетаниях, соединениях. А также в мощном личностном заряде автора, вступающем во взаимодействие с языком. Важно, чтобы художественные тексты были заряжены эмпатией. Недавно я читала книгу Пелевина «EmpireV». Мне понравилась она, очень четко, лихо, талантливо, с фантазией сделанная вещь. И нет ни тени эмпатии. Ни с кем из героев не хочется остаться и поговорить.
— Это важно для писателя, чтобы в книгах была эмпатия?
— Это важно для читателя.
— В книгах Кафки или «Записках из подполья» Достоевского эмпатии никакой нет.
— Совершенно точно, вам нравятся эти книги?
— Нравятся. Но, как сказал Оден, остаться под одной крышей с Достоевским совсем бы не хотелось.
— Да. И от их героев хочется дистанцироваться. Просто есть гениальные писатели, а есть любимые.
— Есть ли в классической русской литературе важные для вас писатели, которые находятся не на слуху? Для меня, например, непонятно, почему Булгаков известен всем, а Алексей Ремизов – немногим.
— Ремизов — прекрасный писатель! Вообще, это один из самых болевых для меня вопросов. Недавно я разговаривала с моим редактором Ольгой Николаевной Аминовой из издательства ЭКСМО: «Оля, а вот скажите, Трифонова переиздают?» Она отвечает: «Нет. — А Юрия Казакова? Одного из самых блистательных русских стилистов, переиздают? — Нет, — говорит. — А Нагибина? — Нет». Это дико. Это — большая драма. Видимо, существуют какая-то странная зыбь, болото, куда проваливаются какие-то имена.
Театр может обходиться без слов, но литература — нет.
— Кто из писателей интересен вам в современной российской или зарубежной прозе?
— Мне нравится американский писатель Джонатан Фоер, он написал «Полную иллюминацию» и «Жутко громко, запредельно близко». Очень хороший автор. Мне вообще нравятся современные американские писатели. Бродский считал, что в современной американской литературе сильно работают женщины. Симпатична проза балтиморской писательницы Энн Тейлор. Между прочим, мне совсем не чужды хорошие английские детективы. Это снимает с мозга словесную усталость. Анна Ахматова говорила: «недурно прилечь на ночь с хорошим детективом». Американские детективы тоже хороши, но они более брутальны. Французскую современную литературу не люблю, совсем нет отклика.
— Мы живем в постинформационном, невероятно технологичном мире. Виртуальность с реальностью поменялись местами: люди живут в сети, работают, влюбляются, репрезентуют себя. Существует разрыв между нашим сознанием и интенсивно меняющимся миром. Как вы ощущаете эти изменения?
— Я думаю, что это цивилизационная революция. То есть не просто меняется способ человеческого общения, глобально меняется все: тип человеческой личности, способ мышления, восприятие реальности. Я отношусь к этому с большой растерянностью. Думаю, что во всем этом кроется колоссальная опасность, ибо человек перестает разговаривать и выражать свои мысли так, как это было 25-30 лет назад. У меня есть страницы в Facebook и Instagram, но я стараюсь дистанцироваться от них. Их ведет девушка Карина, талантливый дизайнер. Она мне, например, пишет: «Дин, вы давно в фейсбуке не появлялись, вот вы сейчас в деревне, сделайте там две-три фотографии». Ну, какие в деревне фото? Лодочка, деревья, в общем, ничтожное воспроизведение окрестностей. «Это очень хорошо, — говорит Карина, — это прекрасно». Я не вполне понимаю, почему это прекрасно. Потом Карина пишет мне: «Надо все время быть активным в интернете. Напишите что-нибудь для фейсбука». Пишу текст, отсылаю. «Дин, это очень много». Я говорю: «Послушай, это все-таки я написала, известный писатель Дина Рубина». Она: «Нет, люди не могут читать большие тексты. Пишите короткий». Я: «Ты с ума сошла, они читают три тома моего романа «Русская канарейка». Она: «Вы ничего в этом не понимаете, в фейсбуке должны быть короткие тексты, всё!»
Моя дочь — археолог, блестяще владеет английским, ивритом, латынью, древнегреческим, арамейским, у нее даже кота зовут Шунра, что в переводе с арамейского означает просто «кот». Я что-то ей пишу, она мне в ответ посылает рожицу или большой палец «на ять». Я же просто бешусь от этого. Мне хочется, чтобы близкие люди были людьми, а не значками. Не знаю, что с этим делать, наверное, просто старею, а мир слишком быстро меняется.
— Какие у вас места силы в Израиле?
— Я обожаю север Израиля. Там на горе Кармель есть маленький винный городок Зихрон-Яаков — я бы хотела в нем жить. Там похоронен барон Ротшильд, он был большим покровителем Израиля. Винный городок, каменные особнячки, каменные глубокие подвалы, винокурни — я это очень люблю. Мне нравятся сосновые места в Израиле. Море, сосны и горы. Я живу в иерусалимских горах, в очень симпатичном месте, которое в переводе с иврита означает «Вестница Сиона». Когда вы поднимаетесь из Тель-Авива, то кажется, что вот уже перед вами Иерусалим. Но нет, это еще не он, а наш городок.
— Я смотрел недавно литературный мост с вами, вы рассказывали о Венеции, о том, что в одном из местных путеводителей нашли идею для своего романа. Венеция — важный город для многих русских литераторов, для вас тоже?
— Я всегда готова ехать в Венецию. Этот город — устойчивый бренд всего на свете: любви, смерти, невесомости, зыбкости существования. Естественно, любой писатель хочет отработать этот бренд. Я уже это сделала. У меня есть повесть «Высокая вода венецианцев», по которой в «Геликон-опере» поставили музыкальную драму. И новелла «Снег в Венеции» — о Венецианском карнавале. В литературном смысле этого достаточно. Я обожаю Венецию как место краткого обитания, очень люблю ее архитектуру и атмосферу — необычайную человеческую странность существования в невесомости, зыбкости, отсутствии устойчивости. Это вообще моя тема — город, который вместе со своими жителями плывет, ускользает от цивилизации, но цивилизация никак не может его отпустить.