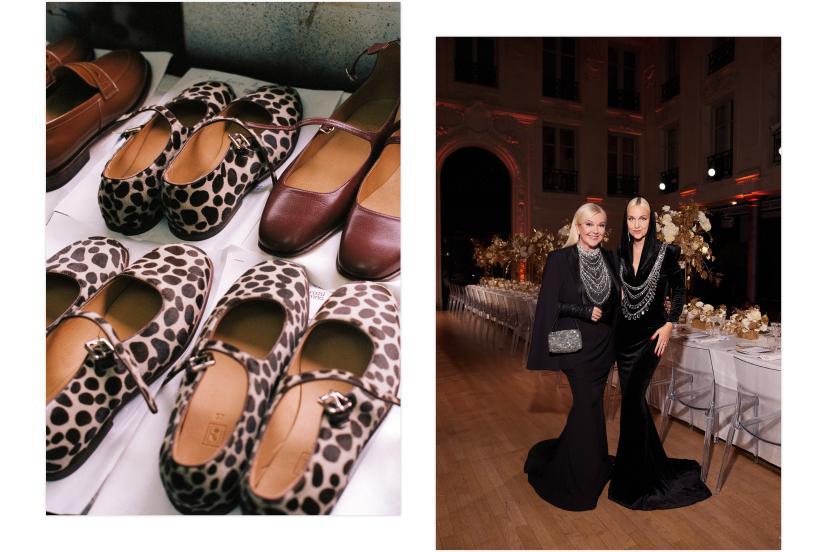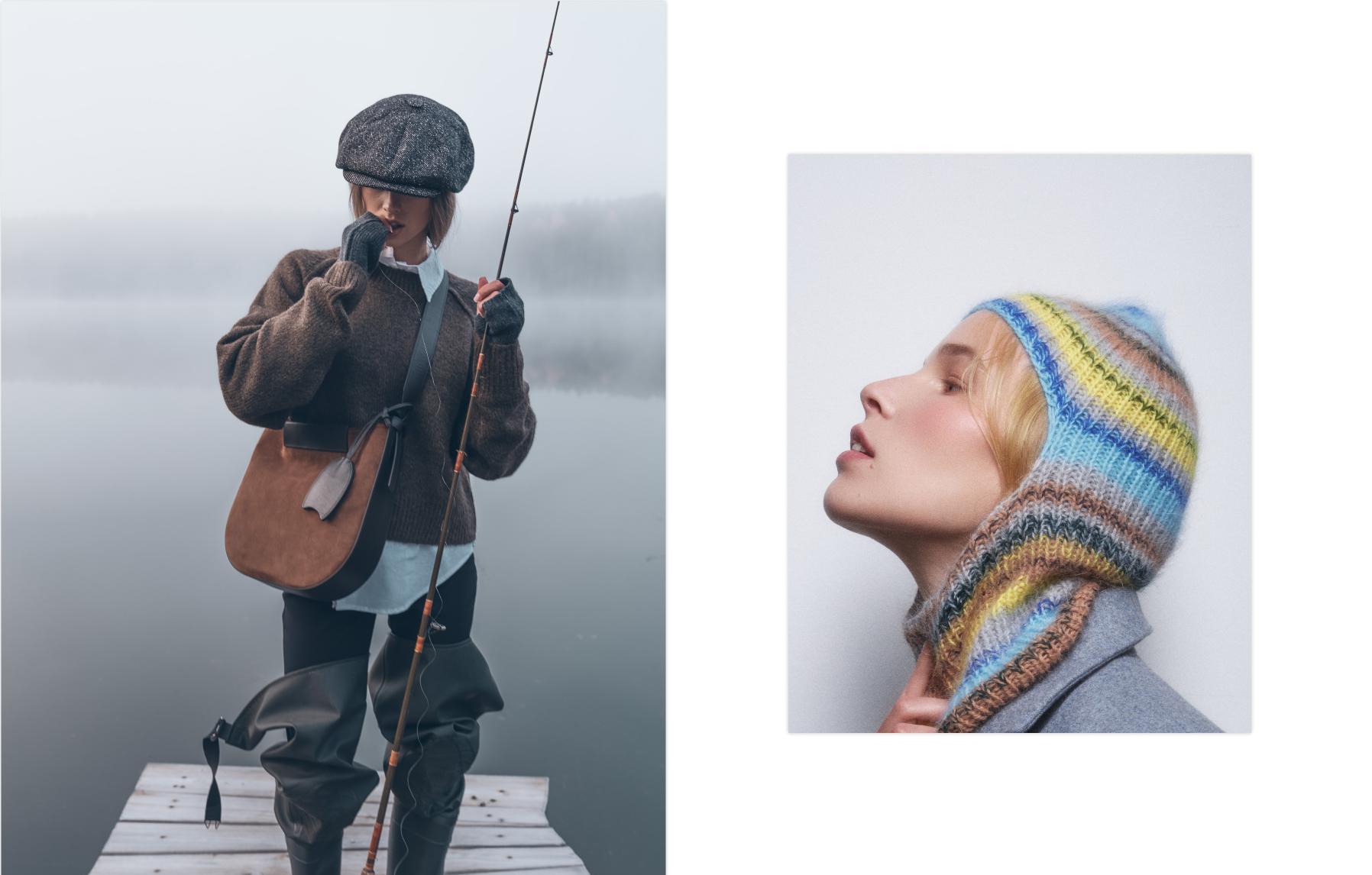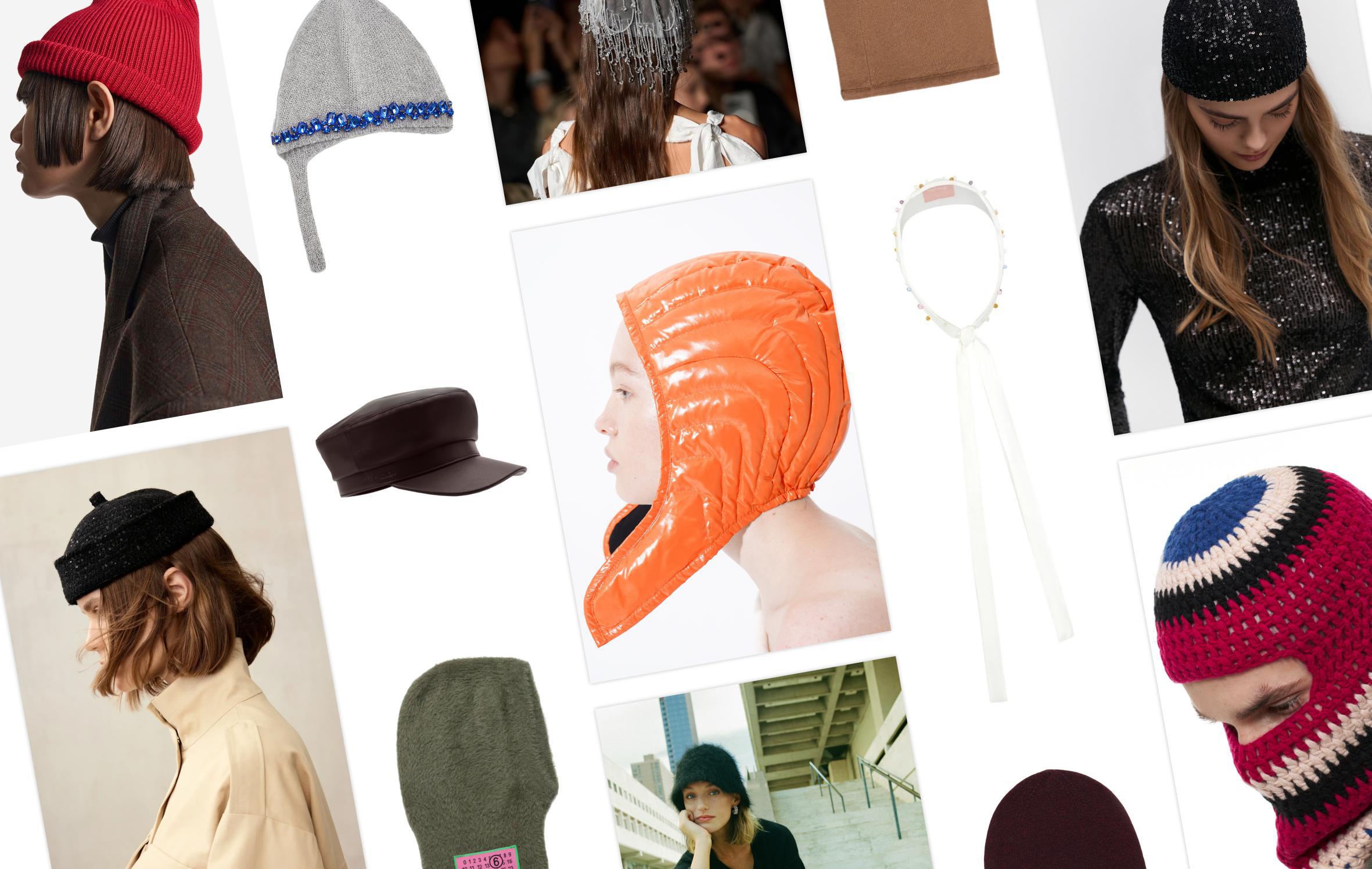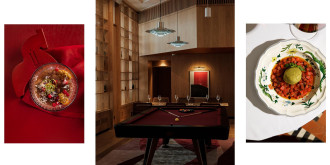Художник-постановщик «Довлатова» Елена Окопная о стиле советских людей

— Вы работали над предыдущим фильмом Алексея Германа «Под электрическими облаками», теперь — над «Довлатовым», фильмом о реально жившем герое. Чем отличаются задачи при работе с современным материалом и историческим?
— В «Под электрическими облаками» действие происходит хоть в недалеком, но будущем, поэтому там было больше «фантазий на тему». Что касается реально жившего героя, то, конечно, это фильм о Довлатове, есть персонаж и его костюмы, но для меня это был скорее срез эпохи, что ли.

— Вы консультировались с женой и дочерью Довлатова Еленой и Екатериной?
— Они невероятно интеллигентны и относились к нашей работе с доверием. Я их расспрашивала про быт того времени, про коммунальную квартиру, какая там была среда. Они оказались прекрасными рассказчиками. Обычно я в работе в первую очередь хочу ощутить атмосферу, потому что повторить все «как было» точь-в-точь невозможно и не нужно. Все равно так же не получится. Другие интерьеры, другие лица. Екатерина, кстати, сделала большой комплимент Еве Герр, которая играла Катю.

— Как происходит процесс работы? Он начинается с того, что вам присылают готовый сценарий?
— Очень по-разному. «Довлатова» мы делали в гораздо более сжатые сроки, чем «Под электрическими облаками». Конечно, когда живешь в одной квартире (Алексей Герман-младший — муж Елены. — Прим. «РБК Стиль»), ты не можешь не обсуждать какие-то вещи заранее, до того, как готов сценарий. У нас получилось хорошее сочетание, потому что мы где-то похожи: можем с разницей в пять минут, не сговариваясь, придумать одно и то же. Но в то же время Леша выбирает подход от общего к частному, а я наоборот. И вот так в дополнении друг друга появляется что-то третье. Иногда сцены дописываются и добавляются уже в процессе работы. Конечно, я читаю сценарий, но мне кажется важным не продолжать чью-то мысль — современное кино часто замыкается на линейной истории, а у Леши кино скорее уходит в сторону Феллини.

— Еще в современном коммерческом кино обычно плоский кадр, а у Германа глубокий, и его, наверное, нужно насыщать.
— Да, если я буду работать только по сценарию, то не смогу придумать что-то еще. Поэтому я в какой-то момент просто отпускаю себя, и, слава богу, Леша мне доверяет и дает такую возможность. Например, как во время съемок «Под электрическими облаками», он может сказать: «Нужна выставка современного искусства». Какая выставка, какого именно искусства — это уже мое дело предложить. И вот снится мне ночью летающий человек. Дальше ему уже можно придумать смысловую канву, но для меня она вторична, потому что хорошее искусство хорошо и без нее. Я в своей работе опираюсь на два вида искусства — живопись и поэзию. Но пока нет интерьера — пусть это будут просто голые стены, я не могу нарисовать то, как вижу. Пространство задает направление — как когда ты одеваешь человека. У него есть особенности, например черты лица, которые ты не можешь игнорировать, поэтому ты, одевая человека, как бы в том числе его дописываешь.
— Были при подготовке к фильму истории про 1970-е, которые вас удивили?
— Я познакомилась с одной женщиной, которая рассказывала, что помнит Довлатова того времени. У ее семьи была отдельная квартира, что тогда было редкостью, поэтому многие встречи происходили у них. И она ребенком подслушивала и подглядывала в щелочку за гостями. Вспоминала, что говорили тогда совершенно иначе. Темы были другими, риторика. Все мы знаем, как в СССР добывались альбомы, вырезались картинки, которые печатались в «Огоньке», то есть люди хватались за любую визуальную информацию там, откуда ее можно было получить. Вот эта жадность до материала мне очень симпатична. Сейчас почти все можно узнать в интернете, но люди часто этого не ценят и образованны хуже.
— Эта женщина рассказывала о том, что именно обсуждали в тех компаниях?
— Очень много говорили о литературе, о языке. Не было деления на кружки по профессиям. За одним столом могли оказаться физики, поэты и художники, и они были в состоянии поддержать любой разговор. Если возникал, например, филологический спор, они тут же могли позвать, скажем, Ивана Васильевича со второго этажа, который поднимался и этот спор разрешал. Это очень азартно и симпатично. Всем было интересно.
— Вы изначально планировали снимать в конкретных местах, где жил и работал Довлатов? Известно, что в итоге не стали снимать «Сайгон» и Большой драматический театр.
— Еще собирались снимать в квартире Сергея Донатовича, но мы отказались. Конечно, эти места не выглядят так, как в начале 1970-х. Но даже если бы они не изменились, все равно многое пришлось бы переделывать для съемок. Нужно иметь соответствующие возможности — не только финансовые, но и чтобы разрешили эти помещения приспособить под съемки: где-то гвоздь прибить, где-то еще что-то. Кинематограф не всегда любит лишь документальную часть, и даже самые «настоящие» пространства должны быть органичны. Проще все-таки работать с тем пространством, в котором ты имеешь возможность для маневра. Меня решение построить декорации не пугает.
Единственное, бывает, что попадаешь куда-то и не чувствуешь помещение. На «Довлатове» нам повезло — мы нашли пространства, которые нам помогали. Притом что мы в одних и тех же интерьерах делали разные декорации. Одна редакция журнала, куда приходил за заказом Довлатов, снималась в заводском общежитии. И, опять же, нам повезло — мы нашли для сцен на даче уролога потрясающий дом. Он был не в лучшем состоянии, но с большими окнами. Мы поклеили обои, перекрасили балки, поставили мебель, все было сделано специально для фильма вплоть до батарей. Кабинет на «даче уролога» снимался совсем в другом месте и тоже был сделан с нуля. Наверное, зрители этого не заметят, но вдалеке набиты типичные для интеллигентских дач такие специальные реечки. Или, например, тоже малозаметная деталь — в одной сцене, где Бродский читает стихи, Довлатов проходит мимо стола, в котором есть выемка для кисточек. Важно было задать настроение человека и представить себе, кто мог бы здесь жить.

— Какие именно материалы эпохи вы изучали?
— Я ходила в библиотеку, изучала документальные фотографии (причем не только начала 1970-х) из абсолютно разных сфер жизни. Когда рассматриваешь их, цепляешься за чью-то конкретную харизму, которая может проявляться в чем угодно. Одежда того времени, с одной стороны, вроде была одинаковая, а с другой — было много привозной, особенно в Петербурге, и люди пытались найти что-то особенное. Очень сильно на манеру одеваться, конечно, влиял род занятий и хобби человека.
Я побывала в миллионе мест в поисках вещей. Это были петербургские квартиры, подвалы. Помню, искала в одном жутком месте среди крысиного помета. Мне помог человек, который когда-то занимался продажей винтажа, он, кстати, в 1970-х организовывал представления для строителей метро — спускал артистов под землю, и они там давали спектакли. Вот у него осталось много костюмов той эпохи. И не только костюмов — например, я у него нашла ресторанное меню того времени в идеальном состоянии. Я подружилась с антикварными магазинами, остальные костюмы нашли на московских, питерских, армянских и грузинских барахолках. Были очень интересные вещи, которые, что обидно, даже не попали в кадр. Например, у брюк Данилы Козловского, играющего художника, который зарабатывает фарцовкой, по краю штанин были прикреплены пополам согнутые пятикопеечные монеты. Вот вам китч и вызов от питерского неофициального художника. Еще очень помогли частные архивы.
— В СССР ведь разные поколения подолгу жили в одной квартире, поэтому там накладывались слои.
— Конечно. Я однажды для «Под электрическими облаками» обставляла профессорскую квартиру 1991 года, и один художник мне сказал: «Но ведь этого в 1991-м уже не было». Мне кажется, что в том-то и штука — в квартире есть вся твоя жизнь, которую ты прожил и которая говорит о тебе очень многое. Книги на вашей полке ведь не все в один год вышли. Если соблюдать принцип эпохи как сумму вещей одного года, получается стерильно, и ты как зритель не поверишь.
Я использую в работе очень много вещей, не обозначенных в сценарии. Если там написано, что человек пьет кофе, это не значит, что в кадре должна быть только чашка и, может быть, ложка. Меня иногда спрашивают: «Откуда ты это знаешь? Ты же в то время не жила». Да, я родилась в 1985-м, но нельзя ведь сказать, что эпохи заканчиваются резко. Скажем, в 1991-м Екатеринбург, где я жила, был еще вполне советским городом. Манту делали и шапки на резинках были. Например, в квартире Довлатова можно увидеть проросший лук на подоконнике, хотя он, казалось бы, не имеет прямого отношения к сюжету — потому что я помню этот лук из своего детства, и он в том числе создает атмосферу, в которой жил герой фильма.
— В Ленинграде в советское время связи с заграницей были шире, чем в остальной стране, и оттуда проникали все западные модные тенденции.
— Да, за счет того, что Ленинград был портом, и граница с Финляндией не так далеко, так что многое привозилось в город.
— Как вы маркировали принадлежность героев к определенному социальному слою?
— Художественная среда, конечно, выделялась в одежде. Многие носили исторические костюмы — на костюме одного из героев, например, есть элементы XIX века. Они фантазировали. Советские люди вообще одевались гораздо более разнообразно, чем про них часто принято думать. «Физики» одевались определенным образом, творческие люди — по-другому, ярче. Женщины, выбиравшие партийную или административную карьеру, старались подражать министру культуры Фурцевой, их стиль был сдержанным, потому что положение обязывало.
Вообще интересно, как люди сейчас воспринимают моду 40-летней давности. Например, наряжаешь манекен, и может зайти человек и сказать: «Вы знаете, а ведь именно такое пальто носила моя бабушка», а второй подходит: «Вы что, так не одевались».

— Сейчас не только в российском, но и в голливудском кино волна интереса к 1970-м. Почему именно к этому десятилетию?
— «Довлатов» задумывался так давно, что у нас не было сознательного желания попасть в тенденцию. Конечно, эстетически совпало, потому что 1970-е сейчас в моде. Я вообще против острых обозначений, мне, наоборот, хотелось, чтобы фильм «выглядел» по-разному. Но ткани, цвет и настроение — конечно, чистые 1970-е и перекликаются с нынешним увлечением ими.
— Фарцовщик Данилы Козловского выглядит очень модно.
— Да, и не забывайте, что он не просто торгует актуальными для того времени западными вещами, но еще и художник, то есть в любом случае обязан был выглядеть эпатажно. Герой Данилы Козловского — собирательный персонаж, один из них даже ныне живущий. Старые вещи вообще вызывают в актерах генетическую память и влияют на манеру игры. В одной массовой сцене в «Довлатове» из-за платья одна актриса начала держать сигарету тем самым особым образом, как это делали женщины в 1970-х. Она мне потом сказала, что похоже одевалась ее бабушка. Вообще интересно бывает, когда общаешься с человеком и угадываешь в нем какие-то штуки, попадаешь прямо в него.

— В фильме есть сцена сна, в которой Довлатов встречает на пляже Брежнева и Кастро. Как вы делаете сон сном?
— В этой сцене есть такие продолговатые ячейки, которые я подсмотрела на одном заводе, и мне показалось, что их неравномерность дает и глубину, и ощущение нереальности происходящего. Архитектурные линии, особенно 1970-х, вообще какие-то другие и сновидческие, что ли. Еще — развевающиеся на ветру ткани, ощущение воздуха, которое тебя немного отрывает от почвы, как будто ты не заземлен. Конечно, это общие слова — можно сделать все в точности так, как я сейчас перечислила, но ощущение сна не возникнет. Я, конечно, ни в коем случае себя не сравниваю, но когда Феллини спросили, о чем его фильмы, он ответил: «Мог бы написать — написал бы». Есть какие-то вещи, которые не вербализируются. А потом ощущение сна создается всем: игрой актеров, диалогами. Мне очень нравится, когда Довлатов спрашивает дочь, а она не отвечает. «Катя, Катя!» — а она молчит.

— В «Довлатове» также есть сцена, в которой по улицам везут пропагандистские декорации на репетицию демонстрации. Они выглядят нелепо, особенно в контексте взглядов главного героя…
— Мне они как раз очень нравятся. Все равно эти декорации как олицетворение советской жизни и идеологии — часть в том числе и Довлатова.
— А есть сейчас такие вещи, которые будут казаться нелепыми через 40 лет?
— Мне кажется, это пластик, не самый выигрышный материал. Хотя шестидесятнический пластик мне очень нравится. Мы как раз недавно со знакомыми архитекторами обсуждали, что в современных тенденциях есть желание отрезать все, что как будто лишнее. С точки зрения функции и работы это прекрасно. А соображение, что хорошо бы эстетически доработать, почему-то игнорируется. Сейчас на архитектурных конкурсах побеждают проекты, в которых заложено, насколько здание экологично и быстро ли его можно разобрать. Критерий оценки «красота» почему-то за ненужностью часто отпадает. Все идет к упрощению. Жаль, потому что пройдет время, эти здания будут разрушены, а что останется от эпохи?
— Потом тенденция снова поменяется.
— Конечно, но это ведь архитектура нашего поколения, хочется, чтобы что-то осталось.