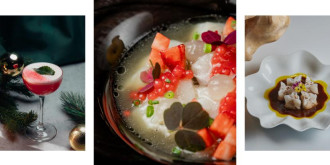Алексей Ставицкий — о своей коллекции из 150 исторических фортепиано

Алексей Ставицкий — человек, работающий одновременно с прошлым и будущим. Мастер-реставратор, настройщик, коллекционер и основатель первого в стране Музея-мастерской фортепиано остается вместе с тем и неутомимым инициатором. Его едва ли можно застать за делом, не связанным с музыкой или размышлениями о ней. Переехав из родной для него Москвы в Рыбинск, Алексей Ставицкий открыл музей, сделав свое собрание исторических фортепиано не просто публичным, а открытым для диалога: между музыкантами и инструментами, между звучащей на них музыкой и публикой. «Блютнеры», «Бехштейны», редчайшие хаммерклавиры и клавесины отправляются на концерты по всей стране, а сам Ставицкий, будто детектив, — на поиски новых инструментов, спасаемых от гибели и забвения. Так прошлое соединяется с будущим, а коллекция Алексея и музея пополняется новыми экспонатами.
Мы встречаемся в «Рихтере» в Москве, где инструмент — рояль C. Bechstein первой половины XX века — хорошо знает руку мастера. Этот разговор окружает переменчивая московская погода последнего времени: то солнце, то гроза, похожие на музыкальные оттенки. От пианиссимо до фортиссимо и обратно.
Сколько экспонатов входит сегодня в коллекцию музея и какие были последние приобретения?
Сейчас в залах музея около 65 инструментов, на шести складах в трех городах находится более 150 фортепиано, а еще примерно 20 инструментов мы сейчас пытаемся «вести»: ищем, восстанавливаем. Прошлым летом я привез рояль фабрики Тишнера пушкинского времени, 1830-х годов, возможно, последний в мире в оригинальном состоянии. Он лежал разрушенным в Пензе, но оказался полностью комплектным. Мы стараемся сохранять оригиналы в их первозданном состоянии, когда это возможно, ведь именно они позволяют по-настоящему понимать и исполнять музыку своего времени.
Мне сразу хочется поговорить о наболевшем. У нас в стране огромные временные прорехи, если смотреть на исторический процесс формирования клавишных с самого первого периода, который длился примерно до середины XVIII века, когда фортепиано только создавалось и царствовал, безусловно, клавесин. У нас не хватает оригинальных клавесинов, не хватает и хаммерклавиров — первых фортепиано, которые появились в XVIII веке, прежде всего в Германии, Англии, Франции. Стремительно уходят последние экспонаты Российской империи. Все, что осталось, — на вес золота. И нам всей страной предстоит подумать, как восполнять пробелы, ведь эти слепки эпохи очень важны.
Стремительно уходят последние экспонаты Российской империи. Все, что осталось, — на вес золота.
Какие есть пути, чтобы решить эту проблему?
Инструменты нужно закупать, привозить из Европы, тем более что стоят они не очень дорого. Многие инструменты были уничтожены в период Великой Отечественной войны, исчез огромный слой, но еще есть возможность восстановить эту утраченную линию. Будь я помоложе, я сказал бы, что наш музей как барс, который готовится к прыжку. Ну ладно, хотя бы гиппопотам. Мы всегда находимся в поиске уцелевших артефактов, всегда бежим вперед, боимся остановиться. Вот сейчас будем спасать удивительный инструмент, который все бросили, он уже начал погибать. Это Bechstein 1880-х годов, как у Франца Листа, и мне совершенно непонятно, как так могло получиться.
Я не единственный коллекционер. Есть и дружественные музыканты, которые отдают свои инструменты, и другие коллекционеры, в России их сейчас трое, мы дружим, и я стараюсь всех объединить, но нужна глобальная работа. Музыкальные музеи по всей стране находятся не в лучшем состоянии: запасников нет, экспонаты утеряны. Никто не занимается этим системно. Есть отдельные энтузиасты, например Вера Городилина из Алапаевска, которая собирала «Вирты» (рояли фирмы Wirth), но труда только одних таких «выскочек» недостаточно. Когда я уезжал из Москвы, чтобы открыть музей, мне тоже все говорили: «Ну, куда ты? Ну, зачем? Это же безумие».

И так, вопреки подобным вопросам, вы оказались в Рыбинске.
Я прошел восемь городов, очень разных, предлагая инициативу музея фортепиано. Не получилось. По разным причинам, возможно, объективным, ведь у больших городов много функций, свои взгляды на культуру и ее развитие. Классическая сложная музыкальная культура всегда находится немного на расстоянии вытянутой руки. И именно это расстояние не дает ей развиваться. Только снизу мы можем это преодолевать. И вот в Рыбинске меня услышали, администрация города поддержала идею. Нам предоставили достойное помещение, мы сделали ремонт по своему проекту. Музей постепенно становится частью культурной идентичности Рыбинска, хотя нас — парадоксально — больше знают в стране, чем в самом городе. Конечно, мы формируем постоянную аудиторию жителей Рыбинска, но этот процесс требует времени и образовательной работы, очень продолжительной, а мы пока действуем всего пять с половиной лет.
Параллельно с ролями идеолога, основателя и главы музея вы продолжаете оставаться коллекционером исторических фортепиано. Как вам кажется, коллекционер вообще может в какой-то момент остановиться, поставить свое увлечение на паузу?
Для меня это невозможно. Когда ты коллекционируешь, то, как только находится новый инструмент, ты сразу об этом узнаешь. Промолчать, пропустить, не спасти его нельзя. Ты принимаешь это на себя и пытаешься вытащить. У меня сейчас шесть складов, и в каком-то смысле я, наверное, закрываю собой всю российскую историю с коллекционированием, оставаясь, конечно, и мастером-реставратором, и исполнительным директором музея. Кстати, удивительное чувство: сейчас я ощущаю себя принадлежащим больше Рыбинску, чем Москве, чувствую себя там своим, а в Москве — странно, ведь я уже начал мыслить совсем другими, небольшими расстояниями.
Этот опыт открыл для вас что-то новое? Ведь на расстоянии мы всегда видим иначе, чем находясь внутри.
Да, я думаю, что сейчас из больших городов не видно музыкальный мир, а я из своей провинциальной жизни замечаю, что классическая музыка оказалась незащищенной. Происходит, например, вымывание учителей. Преподает, и хорошо преподает, мое поколение и, конечно, старшие поколения, которые уже уходят. А что будет дальше? Советский Союз сделал крупнейший рывок в классическом музыкальном образовании, но этот рывок прекратился, мы остались почивать на лаврах, однако реформ не происходит, так что начался спад. И я вдруг понял, что спад в том числе связан с тем, что нет настоящей гастрольной жизни. Знаете, как в Средние века были трубадуры, миннезингеры, беспрестанно перемещавшиеся из города в город. Это было настоящее живое искусство.
Сегодня в музыке ушла история с яркими мелодиями. Композиторы стесняются, музыканты боятся импровизировать, и мы со скорбью об этом молчим, поскольку это настолько больно, что никому не хочется об этом говорить. Это как обсуждать конец света. И я, с болью об этом думая, стараюсь что-то предпринимать. Ведь очень важна эта живая связь музыканта с аудиторией, особенно в маленьких городках. Там слушатели всегда взбудоражены, принимают классическую музыку, ждут ее. Моя же прямая ответственность и обязанность — ездить с историческими инструментами, чтобы на них происходило концертное исполнение. Сейчас я пытаюсь достучаться до сурового города на Неве, чтобы музыканты наконец-то сыграли на петербургских роялях XIX века. У нас есть и J. Becker, и Diederichs Frères. Недавно я привез как раз из Северной Пальмиры C. M. Schröder. Пока такого не было, только Алексей Любимов играл на Erard, хочется эту традицию продолжить.
Из своей провинциальной жизни я замечаю, что классическая музыка оказалась незащищенной.
Неизбежно в контексте многих планов и дел всегда возникает тема времени. Вы успеваете очень многое, занимаясь и музеем, и практически детективным поиском новых инструментов, и их восстановлением. Как вы для себя расставляете приоритеты?
Это для меня проблемная точка. Когда мы говорим про музей, я думаю сразу про пул вопросов, которые должны одновременно находиться в работе. Это и взаимодействие с аудиторией, образовательная деятельность, и необходимость каталогизации всех экспонатов, поиск сотрудников, и многое другое. Кроме того, мы поставили перед собой цель каталогизировать все фортепиано России. Это возможная, посильная задача, но требующая очень большого количества времени. В общем, разбросанность задач порой влечет за собой то, что заниматься всеми ими невозможно.
Время очень часто вроде вора: отвлекает нас от мечты. Пока мы расходуем силы на решение всех насущных вопросов, во всей этой злобе дня мечта остается где-то в стороне. Из приятных моментов: я убедился, что с годами разум не теряет ясности, вопрос только в единомышленниках. С ними рядом все оказывается по плечу. Я прекрасно понимаю, что то, чем я занимаюсь, для широкой аудитории, для публики сегодня слишком узко. А для меня — фокус и цель всей жизни, без классической музыки я себя не представляю.

Для широкой аудитории современный рояль во многом синонимичен фамилии Стейнвей, хотя, конечно, можно долго говорить и о Blüthner, и о Bechstein, и о Bösendorfer — у каждого пианиста будут свои предпочтения. Как вам кажется, почему именно Steinway & Sons стал во многом синонимом современного рояля?
Генрих Стейнвей создал модель рояля, которая практически не изменилась с 1880-х годов. Он объединил лучшие наработки и сделал инструмент стандартом, хотя до Второй мировой войны в Европе лидировал Bechstein. А в Россию Steinway практически не проникал до революции и не имел популярности. В конце XIX века концертные залы сильно увеличились в своих размерах, а XX столетие стало веком стандартизации, звук стал уравненный. Steinway для этого подходит, ведь он мощный, хотя для меня как мастера он сложен в работе и иногда грубоват. Bechstein же требует хорошей акустики, но дает более тонкую палитру звука.
Сегодняшняя звуковая среда сильно отличается от той, что была в XVIII–XIX веках. Наши уши постоянно перегружены и городскими звуками, и тем, что мы слышим музыку буквально со всех сторон, даже когда не слушаем ее предметно. Насколько все в порядке с нашими ушами сегодня?
Наш слух подвергается постоянной перегрузке: музыка в наушниках, усилители, шум городов. Наушники — это вообще убийцы слуха, люди слушают музыку в них часами и не устают, но не знают и не замечают, как все это снижает чувствительность к тонким оттенкам. Раньше, еще до появления звукозаписи, человек слушал какую-то порцию музыки. Он мог ее запомнить или нет, но точно не находился в бесконечном потоке звуков — и случайных, и запланированных. А сегодня мы в сфере глубокого поражения наших возможностей слушать и слышать. Когда мы рождаемся, то слышим гораздо шире и больше. Потом, с течением лет, чем больше мы нагружаем уши, тем меньше слышим. Культура сохранения слуха — это то, что мы должны оставить своим детям, потому что то, что происходит с ними сегодня, — это ответственность родителей. Все эти «иди, иди, посмотри лучше мультики», чтобы ребенок не мешался, влияют на то, как он в будущем будет слышать мир и сколько наушники этого слуха у него заберут.
Слух же реставратора и мастера настройки всегда должен быть точным. В чем особенность работы с инструментами для вас как мастера?
Инструмент для реставратора и музыканта — полноценный собеседник. Я всегда прихожу в зал музея перед отъездом и проверяю несколько роялей, чтобы все было в порядке к приезду пианистов. И это разговор с инструментами, беседа. Хорошая работа мастера незаметна, а плохая — сразу бросается в глаза. Я вернул бы в обиход слово «ремесленник» в хорошем смысле: оно точнее отражает уважение к делу, чем формальное «мастер» или «настройщик».