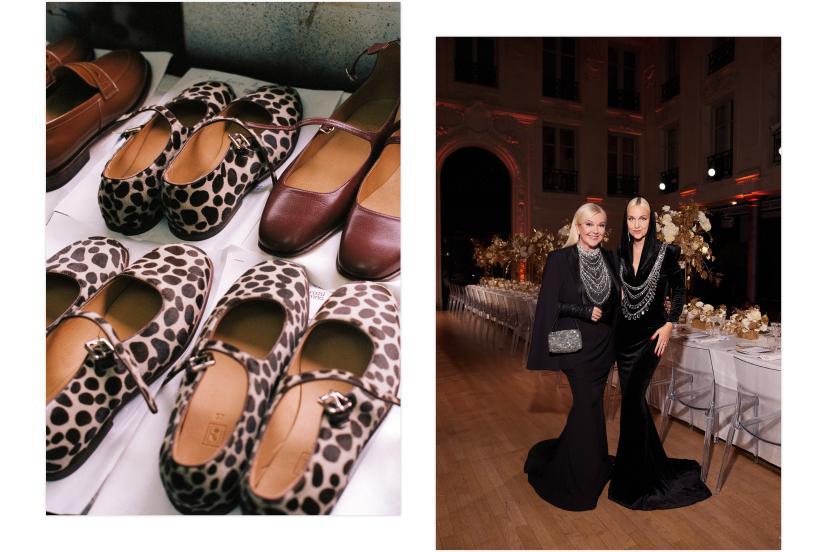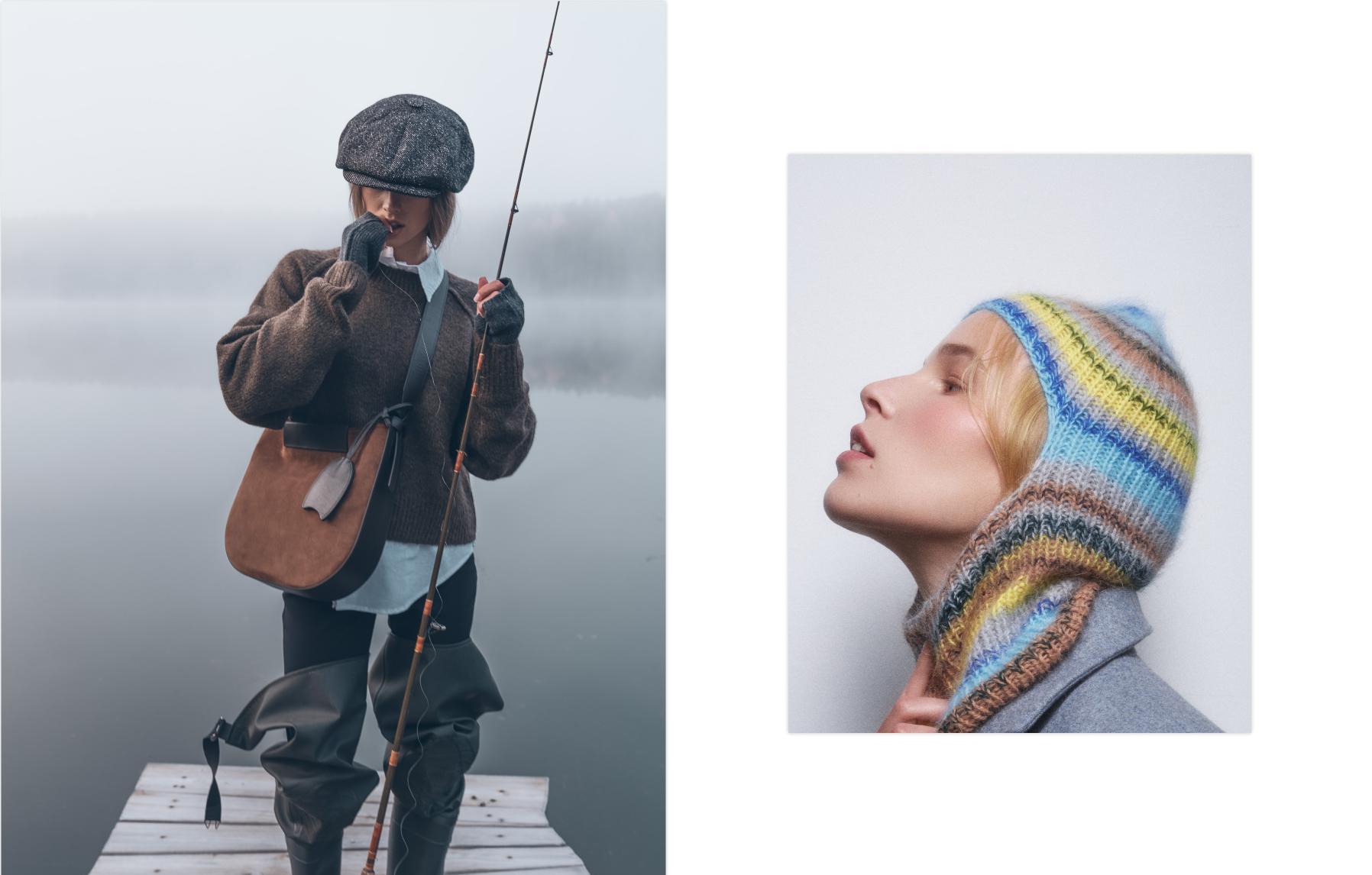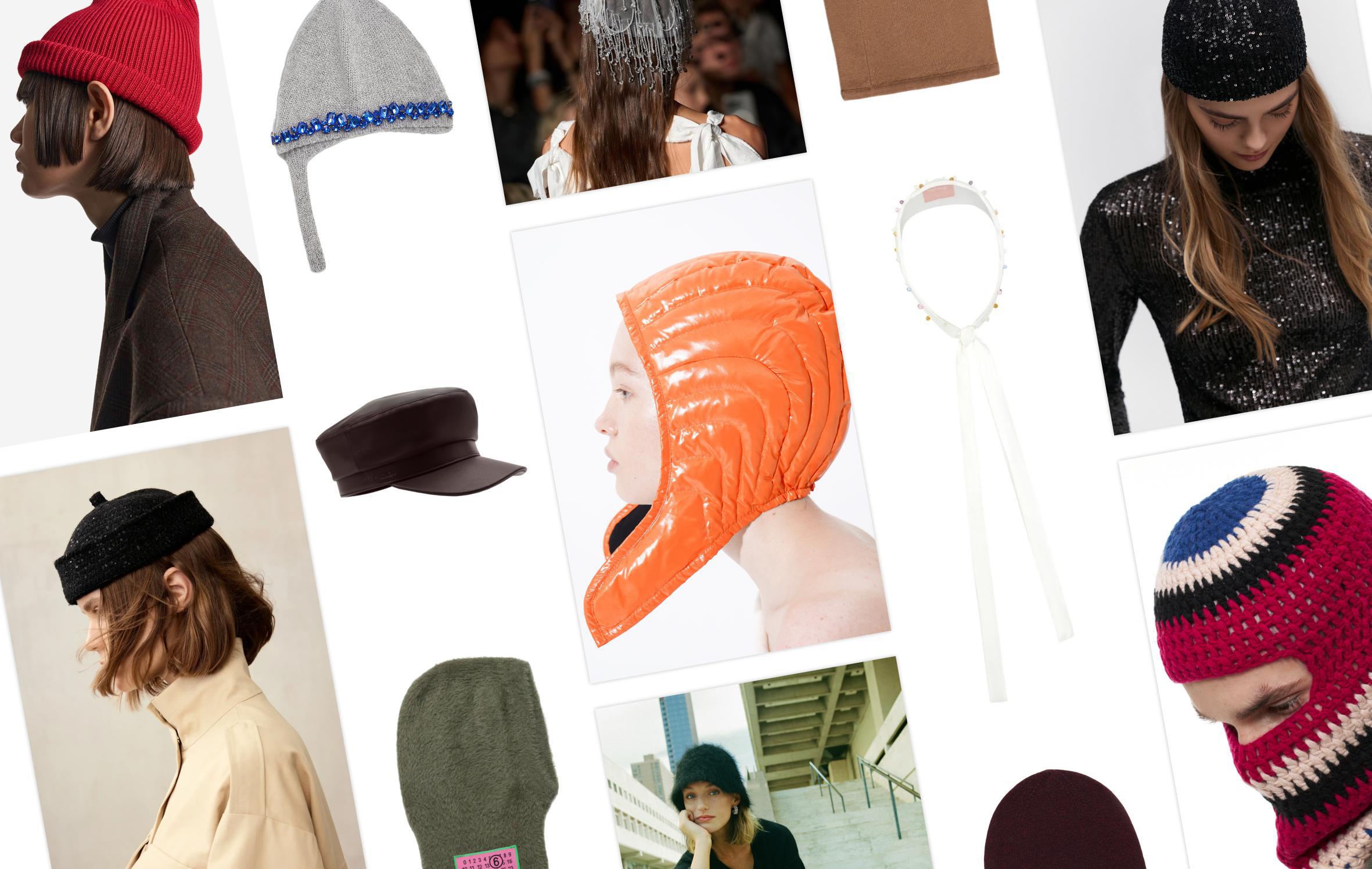Читаем отрывок из новой книги Орхана Памука «Чумные ночи»

Каждый раз, когда губернатор заводил речь о Рамизе, колагасы (офицерское звание в османской армии) внимательно слушал, но молчал, чтобы не выдать своих чувств. Под влиянием бесконечных рассказов матери он проникся интересом к бывшей невесте Рамиза, Зейнеп. Изначально, правда, интерес этот пробудили не столько похвалы ее красоте, сколько рассказы о решительности и своенравии девушки — ведь это она разорвала помолвку с Рамизом.
Ее отец-тюремщик успел поторговаться с женихом о калыме (выкупе), взял часть денег и сразу передал их двум своим сыновьям. Обо всем уже договорились и даже начали готовиться к свадьбе, но тут Байрама-эфенди (эфенди — титул, офицерское звание) внезапно унесла чума, а через два дня Зейнеп отказалась выходить замуж. Событие это могло получить широкую огласку, поскольку Рамиз был братом, пусть и сводным, шейха самого влиятельного на острове текке (обитель дервишей — суфистов).
Мать колагасы допускала, что Зейнеп согласится выйти замуж за того, кто увезет ее с острова, вызволив из неприятной ситуации. Увидев, что ее сын, красавец-офицер, одинок и печален, Сатийе-ханым (ханым — госпожа; частица выражает уважение) сразу подумала о такой возможности.
Романтическая повесть этой любви занимает весьма важное место в истории Мингера, и потому, с одной стороны, она очень любима в народе, а с другой — обросла множеством вымыслов, сильно ее исказивших. Отведем ей место в своей книге и мы, при этом стараясь разделять подлинное и романтическое. С историческим повествованием всегда так: чем больше в нем романтики, тем меньше правды, а чем больше правды, тем — увы! — меньше романтики.
Разные трактовки этой любовной связи проистекают из разных взглядов на причины разрыва между Зейнеп и Рамизом. По рассказам матери колагасы, Зейнеп в последний момент стало известно, что у Рамиза на севере, в деревне Небилер, уже есть жена (если не две), потому-то девушка и передумала выходить за него. Колагасы очень хотелось в это верить, но злые языки говорили и другое: Зейнеп с самого начала знала о первой жене, но не могла противиться замужеству из страха перед отцом и братьями. Когда же отец умер, давно известная правда послужила предлогом для разрыва. Настоящая же причина якобы заключалась в том, что Байрам-эфенди отдал полученные за дочь деньги Хадиду и Меджиду, а старшие братья (близнецы) и не подумали поделиться ими с Зейнеп. Это разозлило девушку, возбудив в ней нестерпимое желание сбежать с острова в никогда не виденный Стамбул. Прибавим, что в 1901 году девица семнадцати лет и помыслить о чем-то подобном не смела, для этого требовалась большая храбрость, что и кружило голову колагасы Камилю.
По мнению же сторонников Рамиза, пылких влюбленных разлучил губернатор, преследуя политические цели: с одной стороны, унизить Рамиза и показать шейху Хамдуллаху, кто на острове хозяин, а с другой — использовать «харизму и авторитет» (выражение одного историка) колагасы для упрочения своей власти.
Мать Зейнеп, Эмине-ханым, и мать колагасы жили в разных кварталах, но последние пять лет дружили. Дочь своей подруги Сатийе-ханым знала с тех пор, как той едва исполнилось двенадцать. Зейнеп уже тогда была очень красива. Но понравится ли она Камилю? И вызовет ли Камиль симпатию у нее? Они ведь еще ни разу не видели друг друга.
С историческим повествованием всегда так: чем больше в нем романтики, тем меньше правды, а чем больше правды, тем — увы! — меньше романтики.
И потом, в доме Зейнеп был траур, а в городе — эпидемия (хотя ощущалось это не очень сильно); не время для сватовства. Поэтому мать колагасы решила для начала сходить в дом покойного и выразить соболезнования, пусть и немного запоздалые. Эмине-ханым была уверена, что, только сбежав с острова, ее дочь спасет честь семьи и свою собственную. Мысль о том, что Зейнеп может выйти замуж за привлекательного офицера, героя войны с Грецией, награжденного медалью и самим султаном направленного на Мингер, и уехать в Стамбул, пришла ей в голову раньше, чем дочери; именно мать заронила эту мысль в голову Зейнеп.
Однако Рамиз действительно был безумно влюблен, и колагасы знал об этом. Потому и чувствовал себя неуютно, когда, облачившись в мундир офицера османской армии, отправился в дом Зейнеп с надеждой ее увидеть. Это был не первый раз, когда он по предложению матери ходил посмотреть на девушку. Сразу после того, как сын окончил военное училище, Сатийе-ханым договорилась с одной стамбульской семьей («наши родственники Мингера!»), жившей в старом, осыпающемся доме в Вефа (район в европейской части Стамбула), что Камиль придет посмотреть на их дочь. Девушка оказалась некрасивой. А на стене в том доме висел морской пейзаж в рамочке — вещь, которую Камиль не видел ни в одном из стамбульских домов, где успел побывать. Этот пейзаж он вспоминал потом долгие годы.
Дом Зейнеп находился за мусульманским кладбищем, в Байырларе. В детстве Камиль и другие ребята из квартала Арпара враждовали со здешними мальчишками. Они стреляли друг в друга из рогаток камнями и зеленым инжиром, сходились стенка на стенку, словно войска, идущие в штыковую атаку, и колотили друг друга палками. Иногда мальчишки из двух кварталов объединялись в общий мусульманский фронт и, словно акынджи (иррегулярная легкая маневренная конница; в мирное время акынджи совершали набеги на пограничные земли), совершали набеги на православные кварталы Хора и Айя-Триада, на другой берег речки Арказ, красть в садах сливы и черешню. Зимой, когда перебираться на другой берег становилось затруднительно, ребячья жизнь ограничивалась улицами родных кварталов.
Из Байырлара в полном молчании поднималась по склону, к кладбищу, похоронная процессия из пятнадцати–двадцати человек: половина — молчаливые мужчины в фесках, другая — мальчишки; за ними увязалась собака. У калитки одного из домов тихо-тихо, словно стыдясь какого-то проступка, плакал ребенок. Колагасы чувствовал на себе робкие, испуганные взгляды из-за заборов; самого его словно бы ограждали от страха мечты о женитьбе на красивой девушке.
Они с матерью разработали простой план, следуя которому колагасы дождался, когда дребезжащий колокол собора Святой Троицы пробьет полдень, и пошел вверх по улице.
В это время его родительница, сидящая в гостях у Зейнеп с ней самой и ее матерью, должна была произнести: «До чего же жарко!», открыть маленькое окно эркера, под каким-нибудь предлогом подозвать к себе двух женщин и показать им проходящего внизу сына. Тут можно было рассчитывать, что его позовут наверх.
Из гордости колагасы убедил самого себя, что сердце его не будет разбито при любом исходе дела. На нем был мундир с позолоченными пуговицами, всегда производивший впечатление на девушек, медаль и ордена. Однако чем ближе он подходил к дому Зейнеп, тем быстрее, к его удивлению, билось сердце. Мать уже открыла окно, ярко освещенное солнцем; увидев сына, она сказала что-то тем, кто сидел в глубине комнаты. Колагасы замедлил шаг.
Когда открылась дверь, он бросил взгляд внутрь, на миг понадеявшись, что сейчас увидит Зейнеп.
Но дверь открыл маленький мальчик. Наверху колагасы ждали мать и Эмине-ханым. Хозяйка дома немного всплакнула, потом взяла себя в руки и сказала, что мундир замечательно сидит на Камиле-эфенди, просто красота. Потом заговорили о крысах. Десять дней назад, выйдя поутру из дому, женщины заметили, что дорога, ведущая в нижний квартал, вся усыпана дохлыми крысами — шагу не ступить. Мать Зейнеп пересказала слух, в истинность которого она сама верила, а колагасы — и под его влиянием Сатийе-ханым — нет: чуму разносит бородатый поп в черном плаще, с налитыми кровью глазами, который каждый вечер приходит из христианских кварталов, разбрасывает дохлых крыс по дворам и улицам, мажет чумной мазью источники, стены и дверные ручки. Как-то раз один мальчик из Кадирлера повстречал его ночью и увидел, что поп этот — тепегёз! (одноглазый великан в тюркской мифологии.) Потом мальчуган два дня заикался от страха. Еще Эмине-ханым поведала гостям, что если купить амулет, над которым прочитал молитву шейх Хамдуллах, и направить в сторону чумного шайтана-тепегёза, тот не сможет вытряхнуть крыс из своего мешка и убежит туда, откуда явился.
Красивой девушки, о которой рассказывала Сатийе-ханым, не было дома. Колагасы, словно ребенок, на которого нагоняют скуку разговоры взрослых, смотрел в окно на темно-синее море, на дома окраин Арказа и оливковые рощи. От волнения во рту у него пересохло, как у больного, попавшего в госпиталь посреди пустыни.
Мать как-то догадалась об этом.
— Сходи вниз, Бешир даст тебе воды, — сказала она.
Колагасы спустился по лестнице и зашел в темную кухню рядом с конюшней.
Не успел он подумать, что в этакой темноте не отыщет ни жбана с водой, ни кружки, как рядом на мгновение зажглась и сразу же потухла керосиновая лампа, и женщина, которую колагасы на мгновение увидел в этом призрачном свете, тихо произнесла по-мингерски:
— Аква нукару! (Вода здесь!)
Но снял со жбана каменную крышку и подал гостю кружку с водой уже Бешир. Колагасы выпил воды с затхлым запахом, вернулся наверх и, уловив странное выражение на лице матери, понял, что девушка внизу была Зейнеп. Поразмыслив, Камильбей решил, что она действительно красива. Наверх, к гостям, Зейнеп так и не поднялась.
Вот и все, что рассказано в письмах Пакизе-султан о первой встрече двух влюбленных. Мы верим в правдивость этой «версии». Рассказ о том, что они долго разговаривали между собой по-мингерски, — позднейшая легенда, к созданию которой приложил руку и сам колагасы Камиль. Официальные исторические сочинения, учебники и популярная крайне правая пресса, находившаяся в 1930-е годы под влиянием Гитлера и Муссолини, способствовали укоренению этой легенды. Но в 1901 году мингерский язык, увы, не был настолько развитым, чтобы на нем можно было выражать сложные, глубокие понятия и говорить: «Нам надо было встретиться гораздо раньше!» или «Давай назовем все по-новому на языке детства!».
К тому же в 1901 году османский офицер из провинции, желая произвести впечатление на девушку, заговорил бы с ней не на местном наречии, а, конечно, на турецком языке — языке своего успеха. То же самое можно сказать и о Зейнеп. Два слова на мингерском сорвались с ее губ непроизвольно, сами собой. «Аква» (вода) — одно из древнейших и красивейших слов прекрасной мингерской речи, и именно оттуда оно (через латынь) было позаимствовано всеми западными языками.