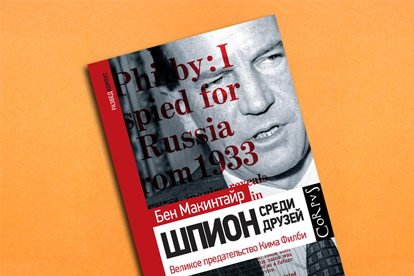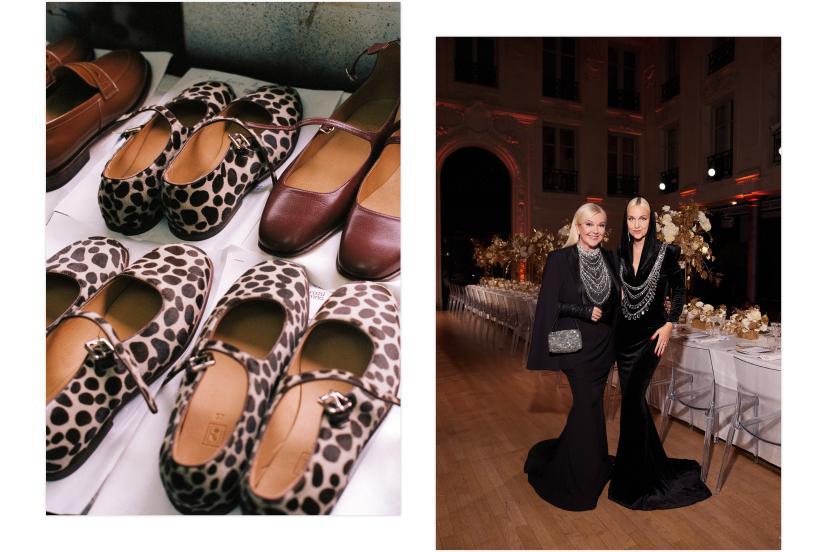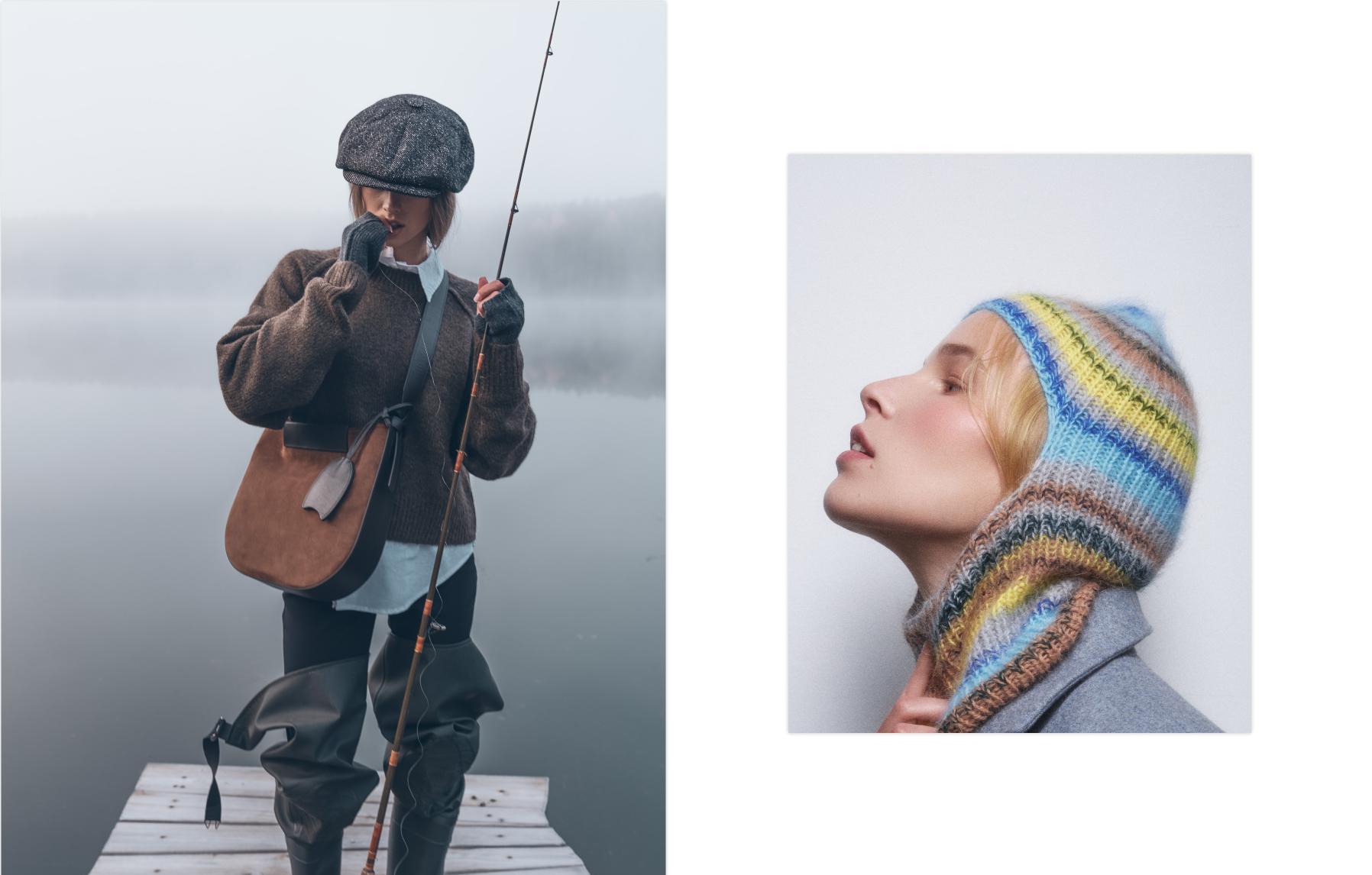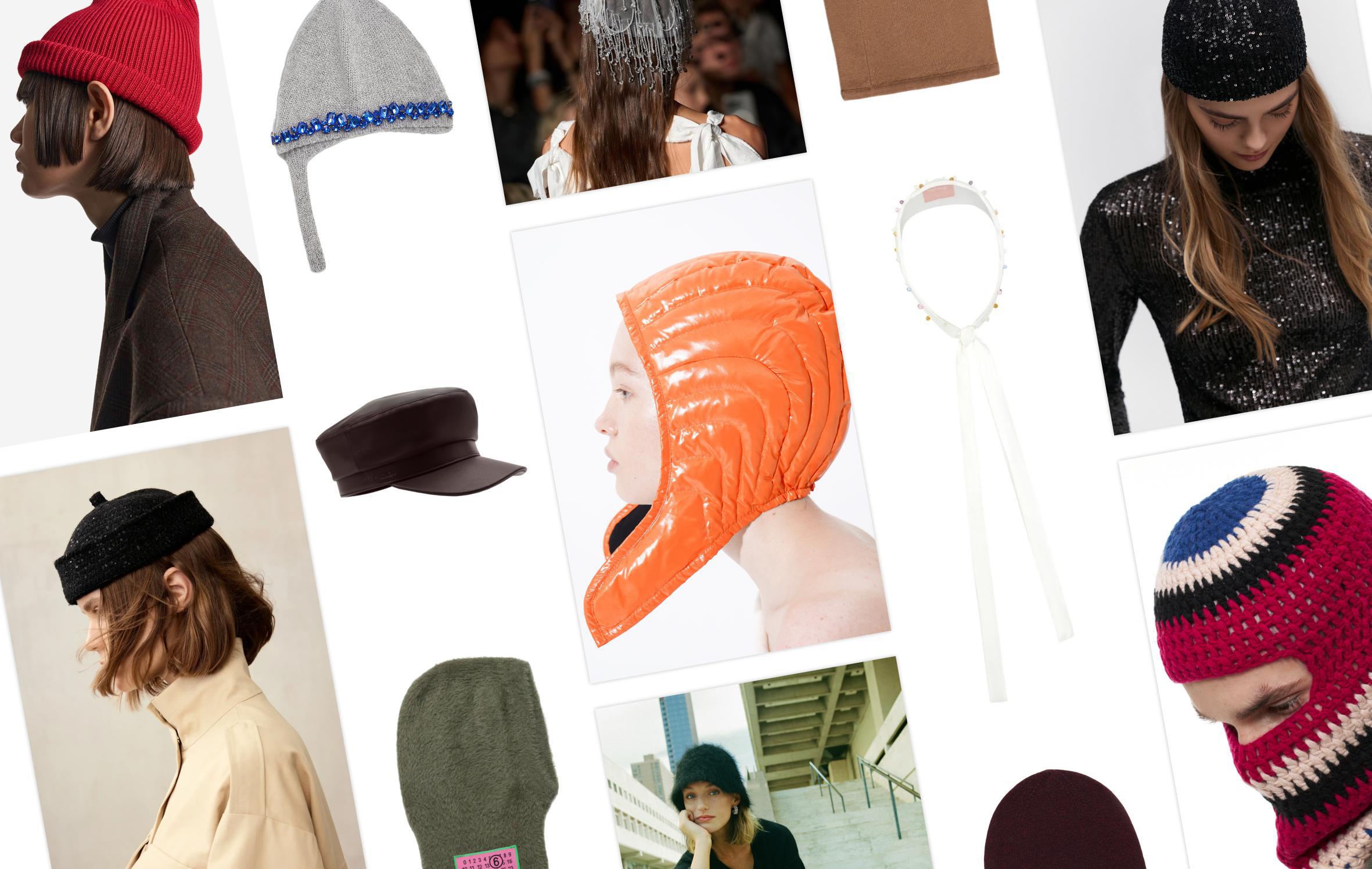Игры разума: «Принц инкогнито» Антона Понизовского

В «Редакции Елены Шубиной» выходит второй роман финалиста «Большой книги» Антона Понизовского «Принц инкогнито». Это и интеллектуальное путешествие вглубь сознания, и герметичный детектив, и бытовая драма, и приключенческий роман в одном небольшом художественном тексте о русской провинции.
«Вместо перловой каши — амонтильядо, вместо застиранных простыней — ордена на муаровых лентах, вместо этого бесконечного мусора — взлеты, прорывы, падения в бездны…». Вместо окружающей действительности разум всегда готов предложить альтернативную реальность. Каждый обиженный ребенок верит, что на самом деле он рожден в королевском дворце и где-то за морем его ждут другие, любящие, родители. А пока лишь избранные знают, что на самом деле мальчик со спичками — принц, путешествующий инкогнито.
Дебютный роман тележурналиста Антона Понизовского «Обращение в слух» , вышедший в финал национальной премии «Большая книга», хвалили за документальную составляющую — серию записанных на москворецком рынке интервью, и ругали за часть художественную. Роман «Принц инкогнито» сконструирован так, чтобы дать развернуться литературному мастерству. Русская эскадра у берегов Сицилии, броненосец «Цесаревич», Мессинское землетрясение 1908 года, тайная коронация принца, инкогнито сошедшего на берег. Морские приключения, яркие краски, захватывающая авантюра. И тут же, рядом, провинциальная больница для душевнобольных, бытовая драма и история безумия, тлеющие белые перья, следы поджога на двери и ищущий пиромана медбрат с королевской осанкой главврача. Образный язык, яркая и плотная проза — несомненное достоинство нового романа. Но и поразительная точность деталей, которая так подкупала в «Обращении в слух», никуда не делась. Перед тем, как сесть за роман, журналист Понизовский устроился санитаром в областную психиатрическую больницу и внимательно наблюдал за будущими героями.В итоге получился роман, в котором «все не такое, как кажется». «Под видимостью обычных вещей, буквально здесь, под щекой, под подушкой — скрыта грозная тайна, которая проявляется лишь в огне. Почему огонь так притягателен? — даже крошечная капелька пламени, не больше икринки. Внутри этой икринки, как в зрачке подзорной трубы, разворачиваются упоительные приключения…».
Отрывок из книги «Принц инкогнито»:
День смотра выдался светлый и ветреный. Побудку сыграли в пять тридцать. Когда становились на подъем флага и на молитву, палуба была еще мокрая от росы. После завтрака «Цесаревич» и все корабли стоявшей на рейде эскадры расцвели флагами. Стало известно, что Государя ждут к десяти.
Команду заблаговременно выстроили вдоль борта. Матросы были наряжены в «первый срок» — праздничное, с иголочки, обмундирование. С окончанием беготни все чувствовали отупение, но лица были умыты; брюки, фланелевки, синие воротники выглажены; руки вытянуты по бокам; свежевыбритые подбородки высоко подняты, глаза пусты.
Пожалев, что не хватило места на шканцах, в строю с офицерами и старшими унтерами, Минька вскоре обнаружил выгоды своей позиции. На верхней палубе «Цесаревича» пушки были окружены спонсонами — балкончиками, нависавшими над водой. Полдюжины младших унтеров, в том числе Миньку, выстроили полукругом. Со спонсона Миньке как на ладони был виден коленчатый трап с медными столбиками, отполированными до зеркального блеска, с девственно-чистым алым сукном на ступеньках. У Миньки, в отличие от меня, было острое зрение. Он видел, как перехлестнула волна через площадку трапа, как потемнело сукно. Пахло большой рекой: балтийская вода почти пресная. Забавно: почти за пять лет, проведенных во флоте, Минька еще не знал на опыте, что у настоящей морской воды совсем другой запах и вкус, другая твердость. «Фал-л-р-репных на-а-а-ве-арх!»
«Фалрепными» назывались матросы, встречающие начальство. В этот раз Минька впервые увидел, как на всех трех площадках трапа — на нижней, средней и верхней — встали попарно шестеро офицеров в полной парадной форме, при кортиках.
Трепеща двумя длинными косицами императорского брейд-вымпела, катер быстро шел между шеренгами разукрашенных флагами кораблей. Послышался рев: когда катер проходил мимо корабля, гаркало многосотенное «ура», и не умолкало, продолжало гудеть, когда катер двигался дальше. Гремел крейсер «Рюрик» и крейсер «Олег». Рокотали огромные темные «Петр Великий» и «Император Александр II». Пройдя между ними, катер уже подваливал к трапу.«Сми-ир-р-р-рна-а-а!..»
Удивительная тишина наступила на «Цесаревиче». Никогда прежде Минька не слышал на корабле такой тишины. Внизу хлопали волны. Скрипнула чайка. Бряцали на ветру снасти. Миньке казалось, что он различает шипение скатывающейся с трапа пены…
Ударил салют, и оркестр грянул встречный марш. Нога Государя ступила на трап.
Врезалось почему-то: либо китель пошили не по размеру, либо ремень был туговат — но сзади складки на кителе Государя топорщились, выпирали не по-морскому. Вытянувшись в струну, выпятив исцарапанный подбородок и до последней физической возможности вывернув шею вправо, Минька глазел на свиту: за Государем следовал адмирал с круглой, коротко стриженной серебрившейся головой; потом длинный в шитом мундире, в монокле; другой адмирал с лентой через плечо, с аксельбантами и в тяжелых, вспыхнувших золотом эполетах… Только в эту минуту Минька заметил, что вышло солнце. Это было естественно: солнце приветствовало Государя. Вода заиграла. Березы вдали, на острове Вихревом, стали желтыми, выпуклыми; потеплели прибрежные камни, и кожа открывшего рот молоденького комендора тоже слегка засветилась.
Здесь Минька понял, что его наблюдательная позиция имела непоправимый изъян: да, те секунды, которые Государь поднимался по трапу, Минька, молоденький комендор и еще четверо унтеров могли любоваться процессией — зато теперь, когда эскорт уже находился на палубе, обзор загораживала орудийная башня. Минька приподнимался на цыпочки, даже подпрыгивал, опершись на комендора, пытался хоть что-нибудь разглядеть в узком просвете между башней и рундуками, через чужие плечи и бескозырки. Из-за спин и затылков донесся отзвук: «…цы!..»
По грянувшему отовсюду «Здра-а!..» Минька понял, что только что слышал самого Государя («Здорово, молодцы»), и присоединился к общему крику: «…а-авия! …а-аем! Ваше! Императорское! Величество!» Одновременно с «Боже, Царя храни» вся команда, перекрывая и «Рюрик», и «Петр Великий», взревела «ура». Минька изо всех сил желал видеть — если не Государя, то тех, кто был ближе к нему; мельком взглянул вправо, на соседний балкончик-спонсон, — и вдруг встретился взглядом с матросом, которого прежде ни разу не замечал.
Ростом примерно с Миньку, то есть невысокий. На загорелом лице теплый солнечный блик.
Этот матрос не кричал. Не поднимался на цыпочки. И — оскорбительно, невозможно! — вовсе не смотрел в сторону Государя. Никто кроме Миньки не обращал на это внимания: пятеро или шестеро на соседнем балкончике в самозабвении надрывались, как и вся команда, все восемьсот человек… за исключением одного.
Невозможный матрос опирался на леер — на тонкий трос, ограждение своего спонсона, — и выглядел совершенно расслабленным, безмятежным. Немного прищурясь и, как показалось Миньке, с едва заметной улыбкой смотрел уже мимо Миньки, куда-то вверх. Продолжая вместе со всеми рычать «ур-р-р-ра-а», Минька повернул голову — но там, куда смотрел Невозможный матрос, ровным счетом ничего не было, кроме воды, плоских поросших деревьями островов, туманной каемки над горизонтом, неяркого солнца.
Когда Минька осознал, что в эту трепетную минуту — в присутствии Государя императора — матрос посмел греться на солнце, подставлять лицо солнцу, — то так взъярился, что, не будь смотра, прямо здесь разнес бы морду мерзавцу, откулемясил, перемозголотил.
Находясь внутри огненного пузырька, внутри сказки, которую нам плетут, нашептывают и строчат язычки, Минька не видит того, что заметно извне: они с «Невозможным матросом» очень похожи. Их можно принять за братьев… ну, может быть, за двоюродных братьев: «Матрос» — безусловно, аристократ, а Минька дворняжка. Миньку я почему-то вижу яснее: сломанный в детстве нос, бровки тоже как у боксера — редкие, удивленные; нагловатые глазки; стиснутые небольшие, но каменные кулаки, на безымянном пальце левой руки и на мизинце белые шрамы... Нет, вру: эти шрамы появились через два с половиной месяца после царского смотра.
Как следует из документов, смотр имел место в среду 24 сентября 1908 года. Назавтра три корабля («Цесаревич» в качестве флагмана, «Богатырь» и «Слава»), снявшись с рейда, отправились в заграничное плавание. Позже к ним присоединился «Адмирал Макаров». Два линкора и два крейсера составили так называемый «гардемаринский отряд»: маленькое соединение кораблей, на которых морскую практику проходили курсанты-гардемарины. Спустя две недели в английском Плимуте «Цесаревич» принял около девятисот тонн угля — именно эта погрузка чуть не стала фатальной.
Как ты помнишь, мне не довелось закончить среднюю школу — я не смогу объяснить, отчего слежавшийся уголь мог «самовоспламениться». Наверное, что-то связанное с окислением.
Уголь хранился в железных ящиках, бункерах, которые назывались «ямами»: каждая «яма» вмещала от сорока до пятидесяти с гаком тонн. Самовоспламенившийся уголь нельзя было заливать водой прямо в бункере, от этого огонь только сильней разгорался. Матросам приходилось лезть внутрь раскаленного ящика, выбрасывать тлеющий уголь на металлическую решетку, чтобы другие матросы могли дробить этот уголь лопатами (по-морскому, «шуровками»). Образовавшийся шлак сыпали в мусорные рукава — то есть за борт. Все это происходило в дыму, в клубах жирной пыли, в пекле; вдобавок, поднялся ветер, пошла волна — корабль стало качать… Когда дали отбой пожарной тревоги, Минька едва стоял на ногах. Черных от гари матросов и унтеров отправили в кочегарную баню.
На «Цесаревиче» было две бани для нижних чинов: общая, так называемая «строевая» (ее открывали по пятницам и субботам), — и «кочегарная», постоянно топившаяся для тех, кто работал внизу. Кочегарная баня была поменьше. Минька приписан был к строевой, причем всегда ходил в первую очередь, с унтер-офицерами: матросы ждали, пока вымоются унтера. Но после пожара было не до субординации: банщики запускали всех вперемешку.
Кочегарный предбанник был низким, длинным. Сквозь туман смутно виднелись запотевшие стальные опоры-пиллерсы. Электрические лампочки размывались острыми звездочками, лучами. Голоса гулко бухали, как внутри бочки. Из-за переборок доносился плеск, гвалт. Босые ноги шлепали по натоптанным грязно-серым следам, корабль покачивало, побалтывало, вода выплескивалась из шаек, по линолеуму извивались угольные ручейки, сливаясь друг с другом то так, то эдак.
Вдруг Минька увидел, что буквально в трех шагах от него, прислонясь к пиллерсу, неторопливо подвязывает порты тот самый матрос, к которому Минька целый день мечтал подобраться. Вид матросского тела возмутил Миньку не меньше, чем давешнее невозможное безразличие к Государю.
У всех мужчин, которых Миньке случалось видеть без верхней одежды, были бурые шеи и заскорузлые руки с обломанными ногтями, кривые мосластые ноги, фурункулы и угри от машинного масла, пятна от угольной пыли, порезы, кровоподтеки… Невозможный матрос выглядел совершенно иначе. Его мокрые темные волосы были гладко причесаны. И весь он, от пояса до подбородка, был шелковым, чистым и складным. Ни с того ни с сего Миньке вспомнился лакированный козырек, Минька почувствовал себя броцким: ему захотелось сломать это гладкое, чистое и чужеродное.
Не подозревая об опасности, Невозможный матрос натягивал сапоги. Он по-прежнему опирался на пиллерс, склонился: Минька увидел, что у матроса на шее туда-сюда болтается… гирька? Круглая, вроде маятника напольных часов — часы, луковка? Но почему же на шее? Выпуклая… табакерка?.. «Ладонка! это ж… ладонка!» — плотоядно обрадовался Минька: появился законный повод придраться. Матросам, конечно же, разрешалось носить нательные крестики — но не ладанки.
Пол качнуло, и круглая гирька качнулась туда-сюда. Минька даже успел разглядеть, что на ладанке выдавлен крест. Вразвалочку — шаг-другой — Минька приблизился к наклонившемуся матросу — и вдруг сделал быстрый выпад, как будто хватал муху.
Однако ладонь осталась пуста, Минька почти потерял равновесие. Матрос непонятным образом успел выпрямиться — и стоял теперь перед пиллерсом, прижимая к груди свою ладанку, закрывая рукой.
— Снял сейчас же, — приказал Минька, ткнув пальцем.
Еще одно беглое пояснение. На флоте (а уж тем более на образцовом флагманском корабле) действовала очень жесткая субординация. Минька был старшим по званию. Он обращался к матросу. Матрос был обязан немедленно повиноваться.
Но вместо того, чтобы суетливо стащить с себя ладанку, этот младший по званию взглянул на Миньку — причем, как один персонаж русской классической литературы, взглянул не в глаза, а на лоб — и совершенно спокойно и твердо ответил:
— Это не ладанка, господин квартирмейстер.
— Няужто?! А что ж?
Когда Невозможный матрос стоял на соседнем балкончике, в пяти саженях, Минька не мог разглядеть, улыбался тот — или просто слегка прищуривался на солнце. Но и сейчас, видя его прямо перед собой, Минька не поручился бы, что в глазах матроса не промелькнула насмешливая улыбка, когда тот раздельно, отчетливо произнес:
— Медальон.
— Н-на̀-ка те мядальен!
На Козьем броду Минька выучился у броцких удару левой под печень. Удар был короткий, но очень резкий и сильный, из-под плеча, безотказный.
И снова Минька не успел сообразить, как он смог промахнуться и со всей мочи вкроиться кулаком в стальной пиллерс: снизу вверх, и еще с подворотом, и вскользь! Перед глазами посыпались черные точки, пошел металлический звон на всю баню… Что-то закапало на линолеум, потекло струйкой, Минька увидел, что пиллерс забрызган кровью. Живот у него подвело. Все обступили Миньку, обмыли руку теплой сулемой, забинтовали…
И без перерыва, немедленно — следующий эпизод.
Вслед за вестовым Минька идет по ковровой дорожке. Миньке совестно за сапоги — стоптанные, недочищенные в складках, он старается ступать по краешку. Минька впервые в офицерском отсеке. Здесь все в коврах, все отделано красным деревом, над дверями таблички: «Флагманъ», «Флагъ-капитанъ»… Из глубины коридора — пение. Женский голос. Слова непонятны. Звуки фортепиано. Смех.
— Обожди! — свысока бросает вестовой и, пригнувшись, юркает в кают-компанию. Дверь остается чуть приоткрытой.
Минька не смеет заглядывать в щелку, но искоса, боковым зрением, видит: в кают-компании курят, сквозь дым что-то блестит, дрожат оранжевые языки в канделябре, поет дама в невиданном, сплошь сверкающем платье (поет не по-русски), при этом сама играет на пианино и то нагибается, то выпрямляется, а платье как будто перетекает волнами.
Все хлопают. Обступают ее. Звенят рюмки.
— …Какой язык, ах какой мелодичный язык! Верно сказал…
— Кто?..
— Карл Пятый! Карл Пятый: по-итальянски — с дамами…
— По-французски! С дамами — по-французски!..
— Неправда! С друзьями — по-французски, с врагами — по-немецки, и по-испански — с Богом!
— А по-русски с кем?
— С Ломоносовым!..
Смех.
— Между прочим, о Ломоносове, помните это: «Вода огонь не потуша̀ет…»
— Вильгельм Осипович, это не Ломоносов, а… сейчас вам скажу… Львов!
— Князь Львов?
— «Вода огонь не потушает, и третий день горит пожар…»
— Типун вам на язык, Вильгельм Осипович!
— На мелодичный язык!..
В кают-компании хохот. Горящие язычки пригибаются и трепещут. Кто-то невидимый затворяет дверь изнутри.
Эта дверь отличается от других корабельных дверей: во-первых, высокая, так что даже рослый офицер может войти, не пригибаясь и не снимая фуражки; во-вторых, у этой двери не четыре задвижки-клинкеты, а шесть, причем ручки клинкет не стальные, а медные или латунные — тоже надраенные, отсвечивают в полумраке.
Здесь очень тихо. Во всех помещениях корабля, где Минька бывал до сих пор, — в кубриках и на палубах, в коридорах, на трапах и в сходных шахтах, не говоря о машине и кочегарке, — нигде не бывало так тихо. Внизу несколько раз подряд бьет волна. Качает, качнуло ковровый пол, за дверью кают-компании зазвенели бутылки, зазвенел смех — и отчего-то качнулось и сжалось сердце…
Раскрылась дверь, вышел лейтенант Рыбкин-третий, радостный, с папироской в зубах, между пуговицами — сложенная газетка.
— Честь имею явиться! Квартирмейстер Маврин, ваш-бродь!..
— Хорошо, хорошо… — кивает Рыбкин и не по-уставному берет Миньку под руку: — Отойдем... Маврин, у тебя в отделении новый матрос… — Смотрит прямо в глаза. — Ты хорошо его знаешь. Отдай ему эту газету. Понял? Отдай ему от меня.
— Слушаю-с, ваш бродь!
— Что с рукой у тебя?
— Не могу знать, ваш-бродь!
— Как же не можешь знать? Дрался?
— Някак нет-с, ваш бродь!
— Смотри, Маврин, — говорит лейтенант, стараясь выглядеть грозно (но Минька видит, что тому хочется поскорее вернуться в кают-компанию). — На каторгу хочешь?
— Някак нет-с, ваш бродь!
— Так смотри не дури. Газету отдай из рук в руки. Не потеряй.