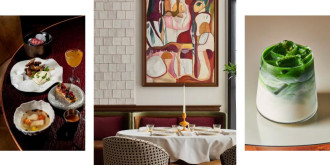Коллекционер Антон Козлов — о рациональном и эмоциональном

Произведения из собрания Антона Козлова постоянно можно увидеть на больших и магистральных выставках в московских (и не только) музеях. Коллекционер охотно предоставляет их коллегам. И с не меньшим азартом ведет Youtube-программу «Пока все дома у Антона». Современное искусство не может быть непонятным или отстраненным, считает он. И прикладывает усилия, чтобы изменить ситуацию. После собственной выставки коллекции в галерее Ельцин-центра в Екатеринбурге (проект «Двадцать один длинный, один короткий») последовала экспозиция в Мультимедиа Арт Музее в Москве, занявшая сразу три его этажа. О том, какие «маршруты» коллекции можно увидеть в проекте «Расположение картин зависит от вкуса», почему регионы не могут дистанцироваться от столицы и других крупных центров, как проявляется слово в произведениях концептуалистов. мы и ведем этот разговор.
Ваша коллекция разложена на «маршруты», которые стали мотивом и новой выставки в Мультимедиа Арт Музеее. Какие из десяти ее маршрутов отразились в экспозиции и почему именно они?
Несколько лет назад для артикуляции своей коллекции я разделил ее на десять маршрутов. Мы сделали это вместе с искусствоведом Сашей Журавлевым. Маршруты охватывают развитие российского современного искусства с 1957 года, то есть, по сути всю историю его существования, последние 70 лет. И в Мультимедиа Арт Музее мы показываем пунктирную карту двух из десяти маршрутов, посвященных беспредметному искусству и московскому концептуализму. Эти два направления, два явления, во-первых, оказались самыми значительными в нашей визуальной культуре.
Это то, чем мы можем представить себя миру, а не только друг другу.
А во-вторых, они максимально повлияли на тех художников, которые продолжают действовать в следующих периодах. Понятно, что абстракцию или концептуализм в чистом виде сейчас создавать было бы наивно, но эти практики художники учитывают больше других. И нам стало очень интересно сопоставить два этих явления, поискать точки пересечения, визуальные и смысловые рифмы, посмотреть, как они взаимодействуют между собой. Результат подтверждает нашу гипотезу о том, что хорошее искусство с хорошим взаимодействует прекрасно и раскрывается необычно. Это не кураторство ради кураторства, а осознанный взгляд, позволяющий увидеть произведения и смысловые пересечения так, как даже я, владелец коллекции, их еще не видел.

Для вашей коллекции это уже второе явление в большом российском музее после недавней выставки в галерее Ельцин-центра в Екатеринбурге. Получается своеобразная эстафета от одной выставки к другой.
Пусть это нескромно, но я действительно понимаю, что делаю. Понимаю, какую коллекцию создал, что это не личная коллекция, а социально значимая, она должна жить в музеях, это законное место этих вещей. Когда ты собираешь произведения, тебе хочется добиться определенного качества, а потом на каком-то этапе коллекционирования понимаешь, что достиг его. И мне всегда было важно добраться до этого уровня, чтобы приступить к выставочной деятельности и выйти со своей коллекцией в публичное поле. Теперь я понимаю, что она сама за себя постоит. На это у меня ушло пять лет. И следующие пять я планирую отвести выставочной жизни моей коллекции, это сейчас основной приоритет. Первая выставка в Екатеринбурге — кураторский проект «Двадцать один длинный, один короткий» — подтвердила все мои ожидания.
Если прийти в музей на выставку современного искусства в публичный день, можно услышать комментарии вроде пресловутого «Я тоже так могу», «Я ничего не понимаю». Нужно ли что-то делать, чтобы ситуация изменилась?
Я не согласен с тезисом, что современное искусство непонятно. Это наша общая присказка, за которой мы хотим спрятаться, как за каким-то большим нарративом. У каждого есть свое понимание современности, какая-то позиция относительно нее. И российское современное искусство — это то же самое, оно — производное от реальности. Оно ведь не в безвоздушном пространстве появилось. А дальше — уже вопрос открытости человека, его эмпатичности, готовности прийти в музей и сказать: «Я хочу разобраться в этом». И никакой нарочитой непонятности здесь нет.
Да, от зрителя тоже требуются труд и вовлеченность. Радость успешной коммуникации с современным искусством не дается просто глазам, оно настолько же интеллектуально, сколько и визуально. В своих проектах я не упрощаюсь до того, что придет неподготовленный зритель и будет радоваться, условно, сочетанию цветов. Я предлагаю вовлечься на по-настоящему качественном материале, ценность которого разделяет со мной все арт-сообщество. И я открыт абсолютно каждому человеку, готов любому рассказывать про современное искусство, и мне не важно его социальное положение или его возраст.
У нас страна, в которой в школе тебе не объясняют ничего про современное искусство, и в высших учебных заведениях, помимо профильных, такого курса тоже нет. Это не публичная тема для обсуждения, по телевизору это не показывают, звезды у нас какие-то другие, не художники. Ну нет у нас Дэвида Хокни, который ходит на чай к королеве. То есть россиянин лишен актуальной культуры, ему недодали, его обделили. И суть моей выставочной программы и, думаю, большинства людей, кто сегодня занимается близкой мне деятельностью, в том, чтобы противопоставлять этому вакууму хороший художественный продукт, достойные выставки. Искусство — это же не ребусы, а объекты открытой коммуникации, и они могут общаться с тобой на разных уровнях. Это все зависит от тебя. И чем больше ты хочешь получить, тем больше ты сам должен открыться, подготовиться, насмотреться.

Какую роль в этом играют музеи? Вы часто путешествуете по регионам и делитесь своими путевыми заметками про положение дел. Как там идет культурная жизнь?
Любой музей искусства будет актуальным сегодня, если он будет работать с современностью. Музей искусства, не взаимодействующий с современностью, это странно и даже неинтересно для меня. Что же касается регионов, то есть проблема с низким уровнем экспертности в современном искусстве. Музеи часто лишены доступа к этой экспертизе и они это понимают. И так как музей понимает, что в этой области он не чувствует себя убедительно, он с ней и не работает.
Я думаю, что это не страх цензуры или показа какого-то актуального искусства, а неуверенность. И она присутствует, в том числе, в крупных региональных музеях классического искусства, которые как будто отрицают вторую половину XX века и первую четверть века XXI, то есть остановились на соцреализме, либо очень деликатно работают с художниками из своего региона. Это прекрасно, им дают сцену, но без диалога с любым центром, не обязательно с Москвой, ничего не сложится.
Может быть, поведение Москвы в других вопросах по отношению к регионам сформировало и в искусстве такое отношение, что «мы без вашей Москвы обойдемся». Но, к сожалению, нет. Нужно разговаривать, искать точки соприкосновения и совместно нарабатывать эту экспертизу на местах и в этих прекрасных музеях начинать работать с современностью. В целом круг имен художников, о которых мы все говорим, которые написали эту историю современного искусства, понятен, и их было бы замечательно показывать и иметь в доступе как азбуку, как базу. Она нужна очень.
Пусть это нескромно, но я действительно понимаю, что делаю.
В своей книге «Пусть мумии танцуют» директор Метрополитен-музея Томас Ховинг много и весьма красочно рассказывает, как он лично и весь музей работали с коллекционерами. Чувствуется ли внимание музейных директоров к коллекционеру сегодня у нас? Может ли коллекционер восполнить пробел, связанный с современным искусством и его отсутствием в музее?
Во всем мире так устроено, что музей имеет обязанность хранить вечно. Это дорогое обязательство. И определить, что мы будем хранить вечно, без такого союзника, как время, сложно. Дальше возникает вопрос, а сколько времени нужно? 10-15 лет от момента создания произведения уже достаточно, чтобы понять, будем ли мы это хранить, как произведение отразило контекст, насколько это удачный знак времени, о чем оно было и как художник его раскрыл. Во всем мире это примерно одинаковый срок. Чем развитее общество, тем он, конечно, больше укорачивается, потому что растет конкуренция за лучшие вещи, потому что потом они все дороже, недоступней.
В России же время оказалось не союзником, а скорее противником. Потому что музеи думают вот уже 70 лет: «а что же мы будем собирать»? В советское время об этом думало государство, была программа закупки произведений искусства, распределения их по музеям. И если в двадцатые годы ХХ века это дало фантастический результат для качества сегодняшних музейных собраний русского авангарда, то, начиная с пятидесятых годов, отрыв от реальности и понимания, где современность, а где пропагандный плакат в форме позднего соцреализма, стал чрезвычайно губительным для художественного фонда страны.
А вот истинное искусство не коллекционировалось и не коллекционируется в государственных музеях. По сути, у нас в стране, кроме прекрасного собрания, сложенного Андреем Ерофеевым для Музея Царицыно, которое позже стало частью Отдела новейших течений Третьяковки, ничего таких масштабов и качества нет. Если говорить про меня лично, то это как раз то качество коллекции, к которому я стремлюсь. Коллекции же музеев пополняются какими-то дарами, что приводит к несистемности и фрагментарности. А как может музей транслировать несистемность? Ерофеев создавал коллекцию, как себе, только для страны, для всех нас. Это человек, которому нужно просто памятник поставить напротив Третьяковской галереи, я серьезно так считаю. И второй такой пример — Ольга Львовна Свиблова, которая была куратором, организатором и идеологом дара Фонда Потанина Музею Помпиду. Это тоже замечательная коллекция и прекрасная база. Других таких примеров я вспомнить и привести не могу.
Мы говорили только что о том, что во многих музеях этой экспертизы нет, но в Москве, в Петербурге она есть, и музейные работники прекрасно понимают, что такое хорошо, что такое плохо, и они все это видят. И, конечно, в отсутствии собственного материала этого периода, они приходят к частным коллекционерам. Опять же, так во всем мире — коллекционер опережает это «музейное» время: имеет возможность покупать сразу. И музей обращается к нему за теми или иными вещами — взять на выставку или привнести в коллекцию, это уже в зависимости от страны и развития арт-рынка.

Давайте поговорим про чувственный опыт и опыт рациональный, построенный на знаниях. Искусство всегда связано с ярким моментом-вспышкой, когда произведение вызывает эмоциональную реакцию. Коллекционирование же — соединение эмоционального и рационального. Как искать и находить в этом грани? Бывает ли такое, что ничего не чувствуешь, но понимаешь, что с точки зрения рационального подхода коллекции без произведения не обойтись?
Раньше я покупал с таким подходом, и, к сожалению, эти вещи теперь не часть коллекции. Все, что было куплено через рацио, с игнорированием собственного пристрастия, в итоге было поменяно на те вещи, которые я по-настоящему хочу. Хороший маркер в контексте этого вопроса — гордость. Просто ответьте себе — вы гордитесь владением произведением искусства? Вот будет выставка вашей будущей коллекции, вы хотите, мечтаете, чтобы эта вещь там была? Если ответ «нет», не покупайте ее, это бессмысленно. Ну, как, если ресурс не ограничен — пожалуйста, а так нет. Для меня сегодняшнего покупка в коллекцию — это симбиоз аналитики и глубокой эмоции.
В российском современном искусстве особую роль играет слово, часто становясь основным выразителем смыслов, что неотрывно связано с историей страны, с реакцией на происходящее во внешнем мире, с историей отечественного искусства. Слово, как известно, может лечить, а может калечить, открывать новое и заставлять задуматься. Какую роль слово в контексте произведений из вашей коллекции играет для вас?
Московский концептуализм на большую часть состоит из работ с текстом. И хотя с текстом работали весь ХХ век и работают до сих пор, все-таки концептуализация слова, текста, комментария, соотношение комментария и изображения — вот это все в полной мере было проанализировано и раскрыто московским концептуализмом. И как мне кажется, это третье, что мы дали художественному миру, после иконы и русского авангарда. Безусловно, в нашей литературоцентричной стране художник, работающий со словом, в первую очередь обладает интеллектом: это умное искусство. Даже если это какая-то ироничная вещь из 80-х, все равно это делали интеллектуальные, умные, молодые ребята, которые так реагировали на серьезность концептуалистов 70-х, которым пришли на смену. Это тоже часть художественной модели. И у каждого есть своя очень особенная тональность, у Пригова — одна, у Пивоварова — другая, интимнее, у Кабакова — третья, пожестче. У Сергея Волкова эта тональность с сумасшествием, с референсами к истории искусства. У Ани Желудь — трагичная. У Алины Глазун — дадаистическая, будто бы случайная. У Риммы Герловиной — чуть сексуализированная и в то же время гуманистическая.
Их искусство может быть подано в совершенно разной форме, но это всегда интеллект и всегда какое-то особенное звучание этого слова у тебя в голове через знание автора, через понимание, что он сделал для искусства. Есть художники, чьи голоса лично мне не близки. Я их признаю, уважаю, но их творчество мне не близко. Например, замечательный, поэтичный Никита Алексеев — прекрасный художник, но для меня слишком романтичный, у меня не получается войти в резонанс. Или, например, из современников — Валерий Чтак, очень важный художник, к сожалению, уже ушедший. И я с грустью, но не коллекционирую этих художников.

Усложнилась ли работа со словом для художника во время, когда, с одной стороны, многое уже было, а с другой, слова себя исчерпали?
Это как абстракция. Ну какая в 2025 году абстракция? Когда настолько все выработано в этих недрах, настолько тема разработана за эти сто лет с любого угла, что, если она не концептуализирована сегодня, то это просто какая-то розово-зеленая декоративная картинка. Так же и работа со словом сегодня для художника достаточно сложна. Я вижу молодых авторов и замечаю все эти отсылки, читаю их, как открытую книгу, и, бывает, испытываю испанский стыд, когда вижу чересчур прямые цитаты. Ведь никто не отменял спортивность в искусстве: если это уже было открыто, то должно подвергнуться глубокой или иной концептуально оправданной переработке. Художники, которые говорят об этом современно, ищут другой, свой собственный тон разговора. Это достаточно сложно, потому что, повторюсь, очень много сказано.
Поэтому я так радуюсь существованию той же Алины Глазун, например, которая нашла свою абсолютно тональность в создании объектов с текстом, в которые она заведомо не вкладывает никакого смысла, а мы все пытаемся его там найти. Она ловит нас на этот крючок, как Дубосарский и Виноградов ловили нас «Картиной на заказ», и ведь многие люди всерьез покупали ее для банка или для школы. Как сегодня многие покупают Алину Глазун и вешают в прекрасные интерьеры. Но в этом искусстве, как в искусстве Виноградова и Дубосарского, есть второй культурологический слой.
Посмотрим на слово как на средство коммуникации. Как вам кажется, члены сегодняшнего арт-сообщества находятся в коммуникации друг с другом? Или скорее разобщены?
Российское арт-сообщество на 99% смотрит едино на самое главное сегодня. При этом внутри этого общего взгляда на происходящее со всеми нами у участников арт-сообщества есть бесконечное количество собственных точек зрения. И этот объем разных взглядов, от галереи XL до галереи fabula, от дома культуры «ГЭС-2» до музея «Полторы комнаты», становится частью общего, к сожалению, за последние три года достаточно поредевшего российского художественного мира.
В плане внутренней коммуникации, мне кажется, у нас все отлично. Глобально мы все друг другу рады, потому что понимаем, как ограничено количество людей, и мы все одни и те же на всех этих открытиях. Это грустно, что одни и те же, что мало приходит новых фигур. В общем-то, все это заметно по микроскопическому масштабу наших взаимных каких-то разногласий. Все это — маленькие покусывания, а не какая-то борьба. Потому что глобально мы понимаем, что борьба-то у нас не друг с другом, а за легитимность того, что нам кажется очевидным, а системе не кажется. Думаю, нас всех объединяет эта позиция.