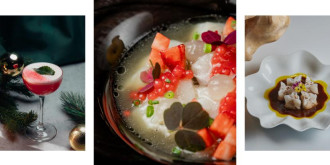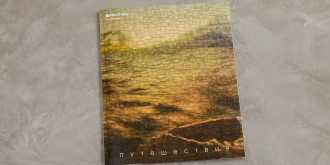Ты можешь «купить» и «продать» столько культуры, сколько хочешь

— Как бы вы могли охарактеризовать сейчас государственную политику в отношении культуры?
— А какая она? Ведь вы говорите о культурной политике, не о пропаганде? Если честно, я ее не вижу, а то, что вижу, не очень понимаю. Но это, вероятно, моя вина, я с ними (министерствами и прочими госорганами. — РБК) не общаюсь. И люди из министерств, они ведь сидят в министерствах. А мы находимся, буквально, в поле.
— Если конкретизировать: ситуация с музеями. В Третьяковской галерее поменяли директора, тут же открыли новый вход в филиале на Крымском валу, начали работать с навигацией, делать громкие выставки...
— Да, я никогда не предполагала, что увижу в Пушкинском музее выставку современного художника. Но это произошло (в октябре и ноябре 2015 года для инсталляции Александра Пономарева по мотивам рисунка «Витрувианский человек» была задействована даже колоннада ГМИИ им. Пушкина. — РБК). Я ее сейчас не оцениваю, просто говорю, как о факте.
И в Третьяковке, действительно, заметны изменения: у новой дирекции другое видение настоящего, ее директор Зельфира Трегулова — человек из музея, который понимает его устройство изнутри, ее знают во всем мире, у нее есть четкая стратегия. Я не говорю, что согласна с новым курсом, но замечаю начало нового этапа. И все-таки речь идет только о музее им. Пушкина и Третьяковской галерее. А сколько всего музеев в Москве? Много. И дела у них складываются по-разному. Одно из направлений нашей работы — как раз взаимодействие с такими «забытыми» музеями, которые, по моим ощущениям, живут в другом времени.
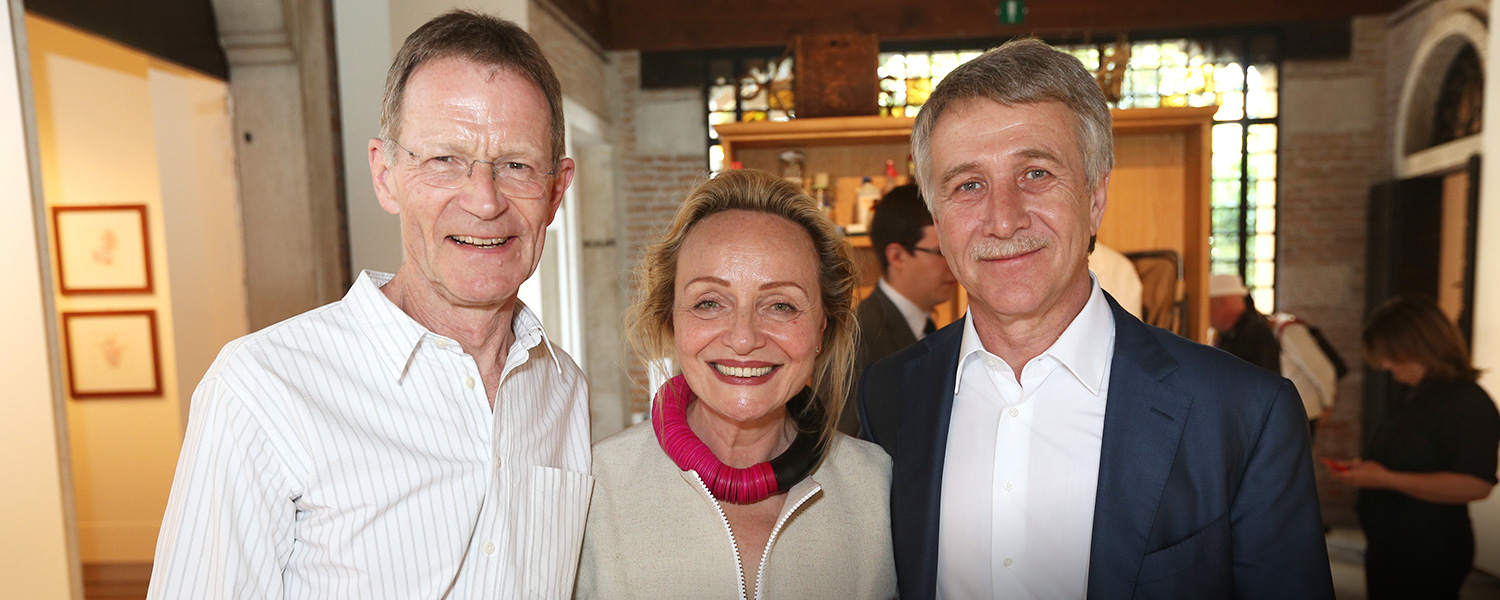
— Вы считаете, что-то можно изменить?
— Возможно. Все меняется.
— Это вопрос скорее частных инвестиций? Ведь даже если будут меценатские деньги, то люди, которые там всем занимаются — они же из старой системы, смогут ли они что-то изменить?
— Они — нет. Предыдущее поколение выросло в другом мире, с которым сегодняшнее никак не может найти точки соприкосновения. Но мы пытаемся. Был у нас такой проект года три назад в Музее меценатов (Музей предпринимателей, меценатов и благотворителей. — РБК). Мало кто знает о его существовании: маленькое, полуразбитое двухэтажное здание в районе Шаболовки. Первый этаж — будто Бейрут во время последнего конфликта: все сломано, даже батареи сняты, вырваны розетки, порваны провода, а на втором этаже жила милейшая директор музея. Именно жила, так как посвятила этой институции всю свою жизнь. Мы там сделали выставку с молодыми художниками и, мне кажется, оживили это пространство. И директор была так счастлива, что наконец-то к ней пришла молодежь. Но это редчайший пример удачного взаимодействия. Другие, мягко говоря, имеют не такой счастливый конец и даже не такое начало. В 2012 году мы делали проект «Педагогическая поэма» в музее «Пресня» (является частью Музея современной истории России. — РБК), который инициировали молодой художник Арсений Жиляев и историк Илья Будрайтскис. Проект об отношениях между историей и искусством. До нас об этом музее никто особенно не вспоминал, несмотря на то, что там находится потрясающая, самая большая в городе диорама, требовавшая на тот момент ремонта (на что, разумеется, не было денег). Тем не менее вести диалог с руководством было практически невозможно: любая наша инициатива встречала серьезные подозрения и сопротивление. Когда мы издали каталог «Педагогической поэмы», то не сдержались и вместо благодарности написали, что сделали проект вопреки и несмотря на противодействие руководства музея. В конце концов наш единственный союзник, директор самой «Пресни», написал заявление об уходе. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, все обязательно будет меняться, но над этим приходится много работать.
Понимать искусство призваны искусствоведы. Правильный вопрос — можешь ли ты получать от него удовольствие или нет.

— Много работая за рубежом с русскими художниками, вы наблюдаете к ним интерес? И насколько вписываются наши молодые художники в международный художественный контекст?
— Давайте разберемся, что означает «вписываться в мировой контекст». Я слышу много разговоров о том, есть ли у русских художников будущее, станут ли они востребованы. Востребованы кем? Они русские художники, потому что родились и живут в России. Для меня вот вы сейчас, к примеру, ничем не отличаетесь от молодого человека, с которым я могла бы познакомиться в Италии, во Франции. Тот факт, что вы из России, не определяет априори мое отношение к вам, как и не определяет отношение к их искусству. Конечно, каждый художник является носителем местного контекста, но все они, русские и не русские, находятся на общем поле, которое называется искусством. В 2013 году в Венеции мы делали выставку Анатолия Осмоловского и Павла Альтхамера («Схождение параллелей». — РБК). Оба художника принадлежат к одному поколению, имеют единую, я бы сказала, основу, пользуются схожими техниками. Но в чем разница? Альтхамер из Польши, у него другая история, другие возможности, поэтому он более известен и, естественно, более востребован. Когда выставка была готова, то заметили, что публика, изначально приехавшая посмотреть работы Павла, открывала для себя Осмоловского, проявляя к нему ничуть не меньший интерес и внимание. Таким образом, это только вопрос возможности заявить о себе. В 2015 году мы организовали похожий диалог между русским художником Арсением Жиляевым и американским Марком Дионом, настоящей звездой по сравнению с нашим «маленьким» Жиляевым.

— Но благодаря фонду V-A-C он уже не такой и «маленький», а хорошо известный!
— Да, но с Дионом его известность сопоставить было нельзя. Однако сам Марк просто влюбился в работы Арсения. Помню, когда приехали журналисты брать интервью у Диона, он первым делом повел их на экскурсию по этажу, где были представлены работы Жиляева. Сегодня Арсений — участник многих международных выставок. Так что, повторю еще раз, нужно только дать шанс установить диалог с внешним миром. А если говорить о том, кто более или менее востребован, то это вопрос рынка. Не скажу ничего нового. Если русские не поддерживают русских, будут ли их поддерживать другие? Художникам нужно принимать участие в выставках, которые кто-то должен организовывать, и где кто-то должен покупать работы, они должны попадать в коллекции… А где наши коллекции? Понимаете? Рынок — это сложный механизм, который требует постоянных усилий, одной отдельной галерее с такой системой не справиться. Поэтому здесь она пока работает с трудом. В городе, где живет больше 12 млн человек, есть только три-четыре галереи. Или пять. Сколько их? В этом случае проще сказать, что их вообще нет, настолько они беззащитны.
— Их так мало, потому что люди не готовы покупать современное искусство, им проще обзавестись новым автомобилем или вложить деньги в бриллианты...
— Я не раз говорила красивым русским девушкам, что они не очень дальновидны. Зачем просить у своих мужчин бриллианты, машины. На следующий день — это уже б/у. И стоит наполовину дешевле. А искусство на следующий день может стоить в два раза дороже. Это шутка.
— Тогда это, скорее, вопрос невежества, что интереснее иметь слиток золота, нежели полотно современного художника.
— Давайте начнем сначала: со спроса и предложения. На наш большой город, как говорят в Неаполе, приходится два с половиной музея, занимающихся современным искусством. У нас по большому счету нет стабильного структурированного предложения. Нет музея, в котором постоянно велась бы стратегическая выставочная деятельность, благодаря которой существовала бы возможность научиться понимать искусство. В этом мы только на старте, такой разговор начался в начале 2000-х, то есть вчера. И за этот короткий отрезок времени Москва прошла очень большой путь, но он, конечно, несравним с тем, что уже прошли другие города мира.

Эскиз внешнего вида ГЭС-2 и прилегающей березовой рощи со стороны Патриаршего моста (проект Renzo Piano Building Workshop)
Я часто слышу, что люди не любят современное искусство, потому что они его не понимают. А вы уверены, что они понимают другое искусство?! А кто его понимает? Понимать искусство призваны искусствоведы. Правильный вопрос — можешь ли ты получать от него удовольствие или нет. Но чтобы его получать, нужно привыкать, образовываться, воспитываться. И хочу подчеркнуть, что одной школы для этого мало, это целый социальный процесс: семья, друзья, место работы, все важно. Вот вы заходите в офис крупной компании, которая, к примеру, добывает нефть, золото, газ, алмазы, что угодно. Они построили настоящие корпоративные дворцы, храмы, на стенах которых зачастую вы увидите абсолютно непотребные вещи. Дело не в том, что это не современное искусство, дело в том — что это вообще не искусство. Давайте попробуем понять, почему же так произошло.

Эскиз одного из пространств ГЭС-2 по проекту Renzo Piano Building Workshop
У меня двое детей, они учились в русской школе. Каждый год они ходили в музей военной техники и Музей им. Пушкина, где раз за разом смотрели и слушали одно и то же. В конце концов им стало скучно, и они отказались туда ходить. Но они бывали в музеях в других странах и знают, какой увлекательной может быть экскурсия. Согласитесь, это здорово, когда дети в музее лежат на полу, рисуют, смеются, играют или обсуждают искусство. А если ты ведешь детей в молчаливом армейском строю и призываешь покорно слушать монотонный неинтересный рассказ, то у них возникнет законное отторжение к любому искусству. Или поход в галерею Шилова. Тут вообще слов нет, после нее сразу врача надо звать. Все начинается с этого. Люди говорят, что понимают классическое искусство, потому что привыкли его видеть. Толпы людей ходили на выставку Караваджо за «эстетическим удовольствием». Понимают ли они его? О каком удовольствии идет речь? Караваджо — это о страхе, о боли, о смерти. Какое же это удовольствие? Также современные художники рассказывают о своих переживаниях. Или вот говорят о восторге при виде росписей Сикстинской капеллы. Я много раз слышала, что это — сама идиллия. Но какая же идиллия в том, что палец человека так и не соприкоснулся с пальцем бога? Разве в этом крошечном расстоянии не прописана вся нищета и несостоятельность человека?

Эскиз внутреннего пространства ГЭС-2, созданный архитектурным бюро Renzo Piano Building Workshop
Разделение искусства на современное и нет — это чисто временной принцип, касающийся только специалистов по истории искусства, а не простого зрителя, для которого культура должна стать естественно необходимой, как воздух, как красивое платье (это для модных девушек). Я уверена, через некоторое время люди поймут, что вешать у себя в доме или в офисе позорные вещи, псевдоискусство, сродни имплантации золотых зубов, как раньше было принято. Современный человек — это тот, кто живет в современном мире во всем его многообразии. Невозможно жить в прошлом, как невозможно и в собственном обособленном настоящем, исключив из него компоненты, которые не нравятся. Например, только потому, что ты занимаешься финансами, не интересоваться искусством. Жить нужно полноценно. Еще один пример. Я как-то оказалась в больнице в Швейцарии и не сразу поняла, где я, в больнице или галерее, так много там было искусства. Везде. Только в операционной не было. Оказалось, что дирекция создала фонд при больнице, который покупает произведения современного искусства и вывешивает их, сопровождая описанием, биографией художников, а также периодически меняет экспозицию. Понимаете? Очень просто, но возможно только тогда, когда у всего общества есть в этом потребность, тогда это становится нормой. У нас все усложняют. Вот говорят: «Нужно сходить в музей». Как в церковь — нужно сходить. Нужно подготовиться, нужно нарядиться, стоять в очереди. Но это должно происходить по-другому, естественнее, что ли.
— Задумывая фонд V-A-C, вы больше думали о том, чтобы помочь художникам или кураторам достичь какого-то уровня, либо приблизить искусство к людям?
— Разница между культурой и политикой состоит в том, что, работая в культуре, ты понимаешь, что глобально ничего не решить, но каждая «капля в море» имеет огромное значение. У нас есть своя «капля». Когда с Леонидом Михельсоном мы задумали открыть фонд семь лет назад, то поставили себе задачу: дать молодым русским художникам возможность продюсировать свои работы и показать их профессиональной публике за границей. Когда мы сделали первый проект в Венеции, на нас смотрели как на экзотику — «русский фонд». А потом забыли о нашем происхождении. Просто судили по проделанной работе и каждый год ждали новую выставку.
— Новое постоянное пространство фонда в Венеции, которое уже откроется в следующем году, насколько я понял из ваших предыдущих интервью, будет нести больше образовательную функцию, а не только служить местом для проведения выставок.
— Когда я говорю о том, что наша деятельность будет носить прежде всего образовательный характер, почему-то ваши коллеги думают, что мы будем заниматься обучением в прямом смысле. Я имею в виду стратегию. То есть мы не будем делать выставку какого-то художника только потому, что он модный, или мы его знаем, или нам легко с ним договориться. Не будем делать выставку уже успешного только потому, что его имя привлечет тысячи посетителей. Это все не об образовании. Мы просто хотим сделать так, чтобы и в Венеции, и в Москве люди научились получать удовольствие от искусства. Сейчас в Венеции у нас есть четырехэтажное здание с мансардой, а раньше было в два с половиной этажа, но даже тогда мы претворяли в жизнь масштабные проекты. И теперь хочется делать и выставочные проекты, и резиденции для художников и кураторов. Хочется создать своеобразное «поле битвы», где происходило бы все самое важное, и культурная жизнь била бы ключом. В одной стороне идет выставка, в другой — дискуссия, анализирующая ее тему. Параллельно есть пространство, где встречаются художники со всего мира. Границы, визы придуманы не искусством. Культура — территория свободы и идей, которым не нужны паспорта.
— Для этих целей вы открываете в переоборудованном здании ГЭС-2 за кинотеатром «Ударник» новое арт-пространство в середине 2019 года?
— Когда мы увидели, что в Венеции все так хорошо получается, что за все годы к нам действительно привязалась публика, то Леонид Викторович (Михельсон. — РБК) поставил перед собой задачу сделать что-то значимое для своей страны именно на ее территории. Мы начали искать площадку, еще не очень понимая, что конкретно она должна собой представлять, должен ли это быть просто выставочный зал, в который «автоматически» мы привозили бы венецианские проекты, или что-то еще. Благодаря нашему сотрудничеству с музеями Нью-Йорка и Лондона мы поняли, что небольшая площадка нам не подойдет. Тогда мы попытались представить, что вообще хотели бы сделать здесь, чего не хватает. Когда мы зашли в здание электростанции, Леонид тут же понял, что это то место, которое нам нужно. Я, признаюсь, осознала это не сразу: вокруг было шумно, темно, много машин и труб. Сегодня я уже отчетливо представляю, как это будет, но тогда именно он мгновенно почувствовал объем — и все решил.
Никакой постоянной экспозиции в традиционном смысле не будет. Кому она нужна?

Эскиз одного из залов ГЭС-2
(проект Renzo Piano Building Workshop)
— Ренцо Пьяно был выбран архитектором проекта, потому что он уже был причастен к музейным проектам (вроде Центра Помпиду в Париже или открытого в 2015-м нового здания музея Whitney в Нью-Йорке)?
— Когда мы обсуждали будущую деятельность в электростанции, то пришли к выводу, что хотим создать «фабрику искусства», место, где искусство производят (разумеется, не в промышленном смысле). И у нас не могло быть другого выбора, не было другой кандидатуры архитектора. Нам не нужно было что-то модное, нужно было скорее функциональное. Вы когда-нибудь были в Фонде Бейелер в Базеле? Вас не поразил там свет? Для меня эта тема очень важна. Нам нужен был архитектор, который смог бы совершить это волшебство со светом. И нам нужен был очень конкретный человек, потому что Леонид Викторович именно такой. Он не про тусовку, а про то, чтобы взять и сделать. Ренцо Пьяно построил больше 30 музеев по всему миру. Если есть архитектор, который разработал правильное отношение между музейным пространством и искусством, это точно он. Музеи меняются. Это уже не только хранилище, а трансформирующаяся структура. И с момента открытия Помпиду в 1977-м до Whitney в прошлом году он следил за этими изменениями, способствовал им. И нам хочется построить то, что будет современным и лет через 150. Это вопрос не создания новой архитектурной формы, а проектирования и структурирования самого содержания этого пространства. С архитектурной точки зрения нам нужно решить вопрос взаимодействия с очень красивым зданием самой электростанции, как преобразовать его, но не потерять, не «забыть» его историю. Ренцо Пьяно в свои 78 не тот архитектор, которого можно купить или получить по рекомендации. Когда он увидел электростанцию, чертежи и старые фотографии, проект его захватил. В историю он уже вошел, сейчас ему нужно только то, во что он верит сам, что ему нравится. Было очевидно, что электростанция и прилегающая к ней территория в самом центре города постепенно умирают. Их нужно было оживить. Кто-то, наверняка, построил бы там очередной торговый центр, но это мало походило бы на возрождение. Для этого места ничего нет лучше, чем культурная институция. Ренцо Пьяно быстро понял, чего мы хотим и тут же подключился. Для нас это стало чем-то невероятным. Кто-то даже спрашивал меня, сколько мы вели переговоры. Так не было переговоров. Мы отправили все документы, я позвонила — и через неделю мы уже встретились. Сразу стало понятно, что мы говорим на одном языке. Тем более, что Ренцо и Леонид Викторович очень похожи. Он же не модный архитектор, он — настоящий строитель. И Леонид такой же, он любит процесс создания. 7 октября 2015 года мы представили концепцию, разработанную Пьяно, господину Собянину (такие глобальные вещи без разрешения города невозможны) и заручились его поддержкой. Мы же не семизвездочную гостиницу строим, не собираемся зарабатывать на этом, а открываем пространство для людей, в которое они смогут приходить, даже если им не так интересно искусство. Если скучно ходить на выставки, все равно найдется, чем заняться: можно просто выпить кофе, погулять в прилегающем к ГЭС-2 «маленьком березовом лесу», как говорит Ренцо. Будет пространство для театральных представлений, перформансов, концертов и кинопоказов. Зайдя к нам несколько раз, я надеюсь, посетители почувствуют, что находятся в единой плоскости — плоскости искусства.
— Говоря про выставки, планируете ли вы там какую-то постоянную экспозицию, к примеру, из коллекции Леонида Михельсона, в которой сейчас собраны произведения главных современных художников мира?
— Коллекция Леонида Викторовича в тот момент, как мы создали фонд, стала коллекцией фонда. И она достаточно сильно изменилась, потому что изменилась стоящая за ней стратегия. Никакой постоянной экспозиции в традиционном смысле не будет. Кому она нужна? Сегодня мы собираем молодое искусство, оно должно взаимодействовать, работать с другими формами. У нас был интересный проект с лондонским музеем Whitechapel. Мы пригласили четырех английских художников, работ которых не было в нашей коллекции, создать выставку или инсталляцию, то есть новую художественную работу, из произведений, находящихся в нашей коллекции. Одну их этих инсталляций после мы даже приобрели в коллекцию. То есть мы дважды купили собственные работы потому, что у них началась новая жизнь, они приобрели дополнительный смысл. Когда у нас уже будет новое пространство, хотелось бы повторить эксперимент с русскими художниками, и, кстати, кураторский коллектив фонда давно ведет подобную работу, пытаясь уговорить местные музеи допустить молодых художников до своих фондов, чтобы на основании этой работы можно было делать выставки.
Ты можешь «купить» и «продать» столько культуры, сколько хочешь. Поэтому музеев много не бывает.
— А вы задумывались о долгосрочных перспективах фонда?
— Когда мы начали думать о ГЭС-2, я собрала ребят, с которыми работаю, и сходу дала понять, что этот проект создается не для меня, а для них, для их детей и внуков. Можно было, например, заплатить и получить более или менее крутого директора или куратора с большими связями. Он сверстал бы программу, придумал бы много выставок. Но молодые сотрудники фонда должны заниматься этим сами, ведь никто лучше них не может знать, что нужно этому городу. Возможны сложности в реализации, но для этих целей есть Леонид Викторович, есть я, есть опыт и знакомства с профессионалами, которые объяснят, как воплотить в жизнь самые смелые проекты, есть средства. Но мечты бесценны, их нельзя купить. «Это ваше будущее, ваша страна, ваша жизнь, вам и решать, как поступить», — сказала я. И они так взялись за дело! Я с таким большим уважением отношусь к ним! Одно дело — когда человек ходит на работу с удовольствием, другое — когда он ходит на «свою» работу. Когда это и его жизнь, и «реальная» деятельность. ГЭС-2 будет их место, место для всех. А музей или нет… кому важно, как это все называется? Я вообще называю это площадью, где отдельные люди становятся частью общества, где происходит общественная жизнь. Мне кажется, важно развивать у людей ощущение принадлежности, понимание, что все вокруг — общее, не чужое. Это называется быть гражданином. Это как в случае самого Леонида Викторовича, который решил вложить огромные средства в общественный проект без получения каких-либо дивидендов. Ведь он не тот человек, который будет ходить по телеканалам и трубить о себе. Наоборот, он избегает публичности. Но идея меценатства настолько правильная! Когда человек сполна возвращает обществу то, что получил, это заслуживает глубокого уважения.
Меня часто спрашивают, не боимся ли мы конкуренции в связи с планируемым открытием в Москве еще нескольких музеев современного искусства. А какой конкуренции бояться? Мы же не сапоги продаем. Ты можешь «купить» и «продать» столько культуры, сколько хочешь. Поэтому музеев много не бывает. И пусть они будут просторными, светлыми, открытыми, чтобы приходить и уходить, когда захочешь, чтобы чувствовать свободу и то самое удовольствие. К сожалению, когда думаешь о музее, то представляешь сразу что-то закрытое, удушающее, особенно здесь. И я как раз по этой причине избегаю этого слова «музей». Вы даже не представляете, сколько у нас было собраний на тему того, что же мы строим: «кластер», «хаб», «музей»... Но мне хотелось, чтобы сразу было понятно, что мы создаем что-то новое. И в конечном итоге, когда нужно было уже печатать буклет для презентации, назвали просто — «два гектара Москвы». Пусть будет ГЭС-2, а люди сами решат, что это такое.
— Проводили параллель между ГЭС-2 и Tate Modern в Лондоне, который тоже когда-то был электростанцией?
— Да, но у них все сделано по-другому. В разговоре с Ренцо и его командой я привела Tate Modern как пример того, чего мы хотели бы избежать. Если вы посмотрите на лондонский музей, то он живет в двух пространствах (а вскоре откроется и еще один корпус. — РБК): Турбинный зал и сам музей. Между ними нет функциональной связи, они не слились в общую среду. Турбинный зал — это всегда wow, что бы ты там ни делал. Но выставки проходят во множестве сравнительно небольших комнат, куда еще нужно добраться. При разработке проекта ГЭС-2 нам было важно сделать так, чтобы все его многоуровневые, в разные годы постороенные части были связаны, даже привязаны друг к другу. Также нам важно, чтобы здесь было комфортно: организуется подземная парковка на более чем 300 машиномест, хранилище для произведений искусства, в котором коллекционеры смогут хранить свои коллекции. Внутри будут, как я говорила, не только выставочные пространства, соединенные между собой, но и ресторан, театр, лекционные залы. Еще один важный момент — здание будет «зеленым», работать по эко-принципам, использовать новые виды энергии: на крыше поместят прозрачные солнечные батареи, трубы задействуют для современной системы вентиляции воздуха, чтобы избежать использования кондиционеров. Будет много стеклянных, прозрачных поверхностей, пропускающих максимум естественного света. Знаете, Россия почему-то ошибочно ассоциируется с чем-то серым и темным, поэтому для нас дело чести предельно заполнить здание светом.