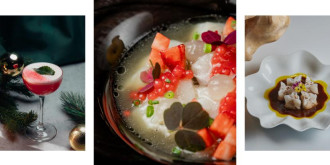Максим Диденко: «Я бреду по стопам Серебренникова и не стесняюсь этого»

За последние несколько лет выходец из петербургского театра Антона Адасинского Derevo, больше известного в Европе, чем в России, стал одним из главных ньюсмейкеров российского театра. Каждая его премьера оказывается громкой, а критики шутят: Диденко знает, как протанцевать любой текст. Однако недавно в кулуарах стали поговаривать, что режиссер уходит из театра.
Мы решили выяснить, насколько правдивы слухи, а заодно поговорить про Москву и Петербург, новый проект «Asmodeus» и причины такой плотности премьер. Ну и еще спросить, каково это, когда у тебя играет Олег Меньшиков.
— В одном из недавних интервью вы рассказывали, как прочитали «Текст», а после написали Глуховскому в фейсбуке. Для тех, кто следит за вашим творчеством, это как минимум неожиданно. Вы работали с классикой, с киноавангардом и почти не работали с новыми текстами. Это ваш первый подобный опыт?
— Ну не совсем так. Ведь, например, пьесу «Беги, Алиса, беги» (одноименный спектакль в Театре на Таганке — предыдущая премьера Диденко. — «РБК Стиль») написал Валерий Печейкин. И несмотря на юбилейный повод (80-летие со дня рождения Владимира Высоцкого. — «РБК Стиль») и достаточно древнее произведение Льюиса Кэрролла в основе, это пьеса, написанная полгода назад.

— Но все равно для «Беги, Алиса, беги» отправной точкой был классический первоисточник. Плюс рефлексия на тему советского прошлого.
— Ну вот Митя (Глуховский. — «РБК Стиль») как-то сказал, что «Текст» отсылает нас к множеству первоисточников. Например, к «Преступлению и наказанию» Достоевского. Хотя это, конечно, абсолютно независимое, самостоятельное произведение. Но вообще, мне кажется, в современном мире любое произведение, которое возникает, так или иначе отсылает нас к вещам, которые в прошлом уже были созданы. Все равно наша культура вырастает из руин уже минувших цивилизаций. Так или иначе, все мы растем из чего-то разрушенного, умершего, написанного кем-то, потерявшего актуальность. И мы будто актуализируем то, что уже было.
— Я правильно понимаю, Дмитрий Глуховский не знал модного режиссера Диденко, ему просто написал...
— Некий чувак. Да.
— Но и вы же не знали никакого Глуховского.
— Ну я уже знал! Я уже прочитал «Текст», и мне он дико понравился, поэтому я был, так сказать, в большей степени замотивирован.
— Насколько вам важно мнение критиков? Если, условно, литературный критик написал про книгу, будете читать?
— Так вышло, что сколько-то лет назад я отсоединился от литературного процесса, происходящего в России. Я вообще этим не интересовался, жил в каком-то пузыре театра. И когда ты 10 лет вообще никак не участвуешь в процессе, чтобы туда занырнуть, нужен проводник. Для меня такой проводник — Галина Юзефович. Во всяком случае, это касается русской литературы. Мне стало очень интересно, я ощутил, что это вообще важно — наблюдать, что происходит в смежных жанрах искусства.

— Вы говорите, что 10 лет были внутри театрального пузыря. Но ведь многие занимающиеся театром, если не все, живут внутри сообщества и по сторонам практически не смотрят. У вас есть объяснение, почему так происходит, почему театр съедает примерно все?
— Объяснения нет. Но мне кажется, это слабая сторона русского театра: он на самом деле ужасающе консервативен и закрыт от нового, свежего и интересного. И в этом смысле Кирилл Семенович (Серебренников. — «РБК Стиль») стал менять замкнутость. Он сделал театр открытым. Сделал «Гоголь-центр» местом, куда люди могут приходить в любое время суток. И он развернул свое внимание и в сторону современной литературы, в сторону кино. Собственно, он первый в России сделал на основе кино спектакль (спектакли «Гоголь-центра» по киносценариям. — «РБК Стиль»), поставил спектакль по современному роману, я имею в виду «Отморозков» Прилепина. Он стал этим интересоваться и, мне кажется, изменил в этом плане театр. В каком-то смысле я бреду по стопам Серебренникова и не стесняюсь этого. Мне кажется крутым, что такое возможно. И не круто, что сейчас театр обратно консервируется во что-то так называемое «традиционное».
— Вы чувствуете разницу между российским и европейским театром именно в этой закрытости или, возможно, в чем-то еще?
— Понимаете, чтобы чувствовать разницу между российским и европейским театром, нужно как-то в европейский театр погрузиться, а я сейчас совсем в него не погружен. Гораздо больше был погружен, пока работал в театре «Дерево»: мы ездили по фестивалям, я жил в Дрездене. Это было уже 9 лет назад. Сейчас читаю книгу Марины Давыдовой «Культура Zero», она очень познавательная, но все равно не дает, да и не может дать чувственного опыта. Очень интересно читать о событиях, которые где-то происходят, но ты же в них не принимаешь участия. А того, что приезжает в Россию, очень мало, и это не всегда понятно вне контекста.

— За европейский театр в Москве традиционно отвечают фестивали «Территория» и «NET». У вас есть время ходить на них, вы же очень много спектаклей выпускаете?
— Времени нет. Особенно когда живу в Москве.
— А в Петербурге?
— В Петербурге чуть свободнее, а Москва — город, который занимает тебя абсолютно, тотально, забирает все твое время.
— Кстати, где больше нравится жить — там или тут? И где ставить?
— Мне нравится в Москве и жить, и ставить. И вообще быть в Москве. На данный момент это так.
— А между московским и питерским театром вы как-то формулировали разницу для себя? Между московским и петербуржским зрителем?
— Петербуржский зритель более консервативный. Москва переполнена деятельными людьми, быстрыми. Они быстро думают, быстро принимают решение. А Петербург — место неспешных людей, «замедленных». Это касается и театра, и того, как там принимают решения, как там вообще все происходит, — все очень размеренно. Люди могут год ставить спектакль. Однажды я договаривался с директором одного театра о постановке, и он мне сказал: «Сейчас не могу точно сказать, приходи через год». То есть на таких дистанциях люди существуют достаточно спокойно. А я так совсем не могу.
— А почему, на ваш взгляд, в Петербурге так много независимых андеграундных проектов, но чаще всего это такое русское бедное. А в Москве много коммерческих историй разной степени успешности. Почему здесь про деньги, а там — про андеграунд?
— Потому что все деньги России стекаются в Москву, это ни для кого не секрет.
— Но почему здесь почти нет своих независимых подвалов? Есть Театр.doc, есть Сева Лисовский, но этих историй не так много.
— Мне кажется, это очень логично. Если все деньги и все люди едут Москву, то, соответственно, здесь они есть и здесь делают коммерческие проекты. И здесь эти проекты делать удобно, потому что это определенная энергия, так или иначе диктующая свои правила. А андеграунду удобнее в Петербурге — там отличная архитектура, мало денег, все разрушается, куча фриков. Все фрики едут в Питер.

— То есть в свое время, когда отправились в Питер, вы были фриком?
— Я был ужасающим фриком! У меня был красный ирокез. Я жил на бывшей оружейной фабрике, в сквоте. Петербург — то место, где андеграунд растет как грибы. Оно прекрасно для андеграунда, прекрасно.
— А что случилось? Почему из человека, живущего в сквоте, вы превратились в мейнстримного, в хорошем смысле, режиссера?
— Я женился. Женитьба остепеняет, как правило. Возникает внутренняя стабильность, желание какой-то осмысленности.
— То есть сквот с женой не соотносится?
— В моем случае — нет.
— А как это случилось? Вы остепенились, поэтому появились проекты в Москве? Тот же коммерчески успешный «Черный русский»? Или захотели чего-то респектабельного, а не сидеть в подвале в Петербурге?
— Происходит взросление. Растут дети, ну я не знаю. Меняется взгляд на жизнь. Это нормальный, мне кажется, процесс, очень органичный в моем случае. Просто какое-то количество времени я провел в андеграунде, у меня был задача сформулировать свой режиссерский язык. И чтобы это реализовывать, нужны были какие-то ресурсы и возможности. В Петербурге для меня этих возможностей гораздо меньше, чем в Москве. Петербург — абсолютно консервативный город, не принимает вообще ничего нового. Сидеть в подвале? Подвальное пространство я освоил, понял, и мне захотелось сделать что-то более масштабное. Это как параллельный процесс развития художественного языка, мысли, и это все абсолютно связано с «бытийными» вещами. Дети ходят в школу, детские сады, надо их кормить. Жизнь, да? Я не вижу в этом никакого противоречия.
Петербуржский зритель более консервативный. Москва переполнена деятельными и быстрыми людьми
— Думаю, не я первая задаю этот вопрос. Чем объясняются интенсивность работы и такая частота премьер — вы быстрый человек, на вас сейчас мода или вы не отказываетесь от предложений в силу каких-то причин? Творческая жадность, в конце концов?
— Для меня это какое-то время было органично, да и продолжает оставаться, на самом деле. Я люблю свою работу, мне интересно то, чем занимаюсь. Успеваю столько делать, потому что это достаточно логично для меня. Не вижу в этом ничего удивительного.
— А как вы успеваете погружаться в материал, быть с ним какое-то время? Есть ли у вас промежутки между материалами?
— Сегодня есть вещи, которые мы планируем сделать в 2020 году. Уже сейчас я в каком-то смысле с этим материалом работаю: думаю о нем, он во мне живет. Нельзя сказать, что я работаю два или три месяца. Есть книги, которые я прочитал в 16 лет, а теперь они во мне живут, и я с ним так или иначе внутренне сосуществую. «Конармию» прочитал лет в двадцать, а поставил, когда мне было 34.
— На сколько лет вперед вы расписываете график?
— Года на два.
— Сколько длится постановочный период?
— Где-то два месяца непосредственной работы с актерами.
— А с командой? Например, с Иваном Кушниром (композитор Иван Кушнир — постоянный соавтор Максима Диденко. — «РБК Стиль») насколько заранее вы начинаете работать?
— За полгода. Иногда за год, иногда за два. Точнее так: у меня есть намерение к определенному моменту сделать определенную вещь, и я букирую соавторов, говорю, что вот тогда-то мы делаем то-то.
— Кстати, как поняли, что Иван — ваш человек? Я не помню ни одного вашего спектакля без Ивана.
— А такие есть! Мы с Иваном сейчас взяли паузу. Мы работали очень плотно пять лет, и я почувствовал, что начинаю повторяться. Из-за того что у нас уже выработался определенный стиль работы, появилось некое однообразие в совместном результате. Вот мы и взяли небольшую паузу. На годик, наверное.

— Вы, наверное, не только соратники, но и друзья?
— Конечно. С людьми, с кем работаю, я дружу.
— Но вы же не можете взять паузу в отношениях с другом. А с композитором Кушниром можете? Нет творческой ревности?
— Ну да, у нас нет паузы, у нас все отлично. Иван работает с другими режиссерами. И ревности вроде нет.
— После одного из последних интервью в сообществе стали обсуждать уход Максима Диденко из театра. Это пиар-ход?
— Ну скажем так. Я действительно пребывал в достаточно мрачных настроениях, особенно в связи с происходящим с Кириллом Семеновичем. И я хочу сделать небольшую паузу — во всяком случае, в Москве.
— Небольшую?
— Хотя бы на сезон. В Москве точно сделаю. К следующему сезону ничего не поставлю. А так, вряд ли, конечно, уйду из театра.
— Вы планировали паузу, обсуждали с кем-то?
— Это не значит, что я не буду заниматься театром и не поставлю ни одного спектакля. Просто не поставлю ни одного спектакля в Москве.
— А не в Москве — это где: в Европе или в провинции?
— Пусть это останется тайной.
— Давайте поговорим про ваш проект «Asmodeus».
— Это интернет-проект, который вы можете посмотреть на телефоне, такой интернет-сериал.
— Как это будет функционировать — надо ставить в Москве новые серии, работать с актерами?
— Не обязательно это делать в Москве. Если делаете лайфстрим, вы можете это делать из любой точки мира. И смотреть его из любой точки мира. Мы сделали свою платформу, на которой можно покупать билеты и все это смотреть в телефоне.
— Не боитесь, что новый формат превратится в ситком?
— Это и будет сериал. Мы уже его превратили в сериал.

— С театральным духом?
— Дух? Театральный дух выветрится, надеюсь. Телефон же никак не может пахнуть. Если его только намазать кремом или надушить духами.
— Вспоминаю «За стеклом» и «Дом-2», прошу прощения за пошлое сравнение.
— Абсолютно верное сравнение.
— И вам не страшно ступать на территорию, вызывающую такие ассоциации?
— Страшно. Но наше шоу посвящено борьбе со страхами, поэтому все логично.
— Так вы еще и педалируете эту тему?
— Не специально. Но так уж сложилась жизнь, приходится этот страх преодолевать. В России так страшно жить, что приходится какие-то терапевтические меры принимать.
— Почему страшно?
— Не знаю, как-то все вокруг сгущается.
— Но сгущаться начало не вчера.
— Казаки скачут на конях, машут нагайками.
— Ваше шоу для онлайна — не способ спрятаться от реальности?
— Возможно. Можно сказать, это и процесс побега, конечно. Но неизвестно, в какую сторону этот побег осуществляется — от или к. Стороны могут быть очень разные. Обычно, когда от чего-то убегаешь, оно тебя догоняет.
— Вы ставили на Таганке, сейчас — в Театре Ермоловой. Оба театра — с громким именем в прошлом, но в стадии некого перезапуска. Такой толпы, как на премьере «Беги, Алиса, беги», на Таганке давно не было. Чувствуете себя каким-то кризисным менеджером?
— Если говорить о Театре на Таганке, то кризисный менеджер там прежде всего Ира Апексимова, это факт. Она привлекает новую, свежую силу, она очень круто ведет дела. И толпа — прежде всего ее заслуга, а я в данном случае только следствие ее невероятной инициативы и таланта. Что касается Театра Ермоловой, у меня от него абсолютно позитивные ощущения. Считаю, Олег Евгеньевич (Меньшиков. — «РБК Стиль») очень неплохо руководит театром и артисты в прекрасной форме. Я не ожидал этого. Плюс очень вменяемые службы. Я действительно доволен, но не считаю, что я там сильно кого-то меняю.
— А есть ощущение: боже, у меня играет Меньшиков?
— Есть. Мне нравится очень. Он, кстати, отличный человек и руководитель. Если возникает вопрос, прихожу к нему, он все решает мгновенно. Наши диалоги длятся одну-две минуты. Ну максимум три.
— Свой театр вы определяете как музыкальный или как физический?
— Никак не определяю. Просто беру материал и делаю спектакль, вообще не задумываясь на тему, как его определять. Традиционно музыка играет большую, даже колоссальную роль во всех моих работах. И с этой точки зрения мой театр можно назвать музыкальным. Но с точки зрения критиков и людей, которые занимаются театральными премиями и всей такой штукой... В общем, им так не кажется. Но мне абсолютно все равно, что они на эту тему думают.
Обычно, когда от чего-то убегаешь, оно тебя догоняет
— Кстати, читаете, что про вас пишут критики?
— Конечно, почитываю, интересно же. Это как в зеркало смотришься по утрам, так и критиков читаешь.
— По утрам настроение не портится?
— Бывает, и портится, когда пишут неприятное.
— Есть ли работа, которую вы бы сейчас не стали делать или о которой жалеете?
— Я должен был поставить в «Гоголь-центре» «Норму» Сорокина. Мы уже почти договорились. Валера Печейкин написал инсценировку, Галя Солодовникова придумала сценографию, но в связи с известным событием все это разрушилось. И, наверное, никогда и не случится.
— А из того, что сделали, хотели бы что-то переделать?
— Да я вообще об этом не думаю. Очень жаль, что «Земля» в Александринском театре прошла раз десять и была снята по каким-то совершенно непонятным причинам. Спектакль очень мало был сыгран, его никуда не свозили, кроме «Золотой маски». Мне кажется, он был погублен. Это как-то неталантливо. Если бы спектакль был уже кислый и мертвый — было бы понятно. А так как он все-таки был живой, как-то очень странно. Но в этом смысле Петербург — болото, в котором тонут мои работы. Впрочем, в «Приюте комедианта» сейчас идет мое «Собачье сердце», так бодро идет. А за «Землю» обидно. Но ничего, наделаем новых!