«Авангард — главный экспортный продукт России с точки зрения искусства»

Московский Еврейский музей и Центр толерантности, посвященный еврейской культуре и истории, открылся в 2012 году в здании бывшего Бахметьевского гаража. На создание музея было потрачено около $50 млн. Основная экспозиция рассказывает об истории России на примере культуры еврейского народа. При этом, в отличие от большинства исторических музеев, этот — интерактивный: здесь 12 тематических павильонов с панорамными кинотеатрами, аудиовизуальными инсталляциями и интерактивными экранами. Еврейский музей считается самым высокотехнологичным музеем страны.
Помимо основной экспозиции, здесь регулярно проходят временные выставки, которые курирует Мария Насимова. Она рассказала «РБК Lifestyle» о том, кто следит за наследством Шагала, об особенностях мирового арт-сообщества и о том, каково это — добывать картины из частных коллекций.
Мария, $50 млн, которые были потрачены на создание музея, — впечатляющая сумма. Выставки тоже стоят недешево. Может ли ваш музей окупиться?
Мы существуем исключительно на частные деньги — попечительского совета и отдельных спонсоров, которые в него не входят. Мы продаем билеты (обычный входной билет в Еврейский музей и Центр толерантности стоит 400 руб. — Прим. ред.), но не окупаемся. Это практически невозможно, ни одна выставка не окупается билетами. Если, конечно, привезти Пикассо, то да — можно. Или Ван Гога.
Жаль, что они не евреи.
ОК, Шагала. Мы привезем Шагала через два года. Сейчас идет период подготовки. Мы хотим показать разные периоды творчества Шагала. Выставка назначена на 2017 год, потому что есть еще Комитет Шагала, возглавляемый его внучкой Мерет Мейер. Она очень тщательно следит за всем, что происходит с наследством ее дедушки, и правильно делает: это большие деньги. Чтобы организовать выставку Шагала, нужно получить разрешение от нее. Если она не благословит, про выставку можно забыть. С большими художниками, у которых есть свои фонды, это всегда сложно. Мы не можем просто пойти и собрать картины по коллекциям. То есть можем, но получим иск.
Как-то можно дискредитировать дедушку Мерет Мейер неправильной концепцией выставки?
|
|
Она должна проверить все экспонаты на подлинность. Она должна получить деньги за то, что эти картины используются. Пусть даже произведение из частной коллекции — это неважно. Мы делаем выставку Шагала, мы на ней зарабатываем, и мы должны с ней поделиться. Это называется «эстейт».
Хорошо быть внучкой Шагала.
А вдовой Роя Лихтенштейна быть просто невероятно хорошо. Мы были связаны с этим «эстейтом», потому что мы также планируем выставку Лихтенштейна, и я могу сказать — они зажиточно живут. Фонд Хуана Миро существует таким же образом. Все наследники больших художников очень тщательно отслеживают, что и где происходит. Мы не просто просим у Мерет Мейер разрешения на выставку Шагала в Еврейском музее в России, мы должны согласовать с ней личность куратора, которого считаем нужным поставить, всех авторов в каталог и каждую работу, включенную в выставку. Это очень нелегкий процесс.
Какие еще еврейские художники окупили бы выставку?
Если говорить о русских — Эль Лисицкий, Роберт Фальк, Натан Альтман. Половина течения авангарда, в России в первой половине XX века авангардистов было очень много. Из западных — Ман Рэй, Люсьен Фрейд, Марк Ротко.
Вы кого угодно могли бы привезти?
В принципе, можно привезти кого хочешь. На это нужны время, деньги и сила воли. Во-первых, мы новый музей. Мы не ГМИИ им. Пушкина и не Третьяковская галерея. У нас нет мировой репутации. Очень многие западные музеи и коллекционеры идут на контакт, когда они понимают, с кем они разговаривают. Поэтому тебе либо нужен выход на этих людей через кого-то более приближенного к ним, либо придется обивать пороги: «Мы готовы пойти на ваши требования. Мы готовы обеспечить вооруженное сопровождение при транспортировке экспонатов». Когда мы показывали Уорхола, к нам приехал один ящик с десятью портретами его авторства. И его сопровождали два господина с автоматами.
Кто еще в планах, кроме Шагала и Лихтенштейна?
|
|
Мы ведем переговоры с Анишем Капуром. Он большой художник, выставлялся во всех крупных музеях. Не поверите, но он еврей. Его мама — дочка главного раввина Тегерана, которая сбежала в Индию. И он, перед тем как эмигрировать в Великобританию, долго жил в Израиле. Был одним из первых репатриантов в 70-х. Мы очень хотим показать в 2017 году Синди Шерман. Мы готовим большую ретроспективу Эля Лисицкого. Здесь задача усложнена тем, что он сильно разбросан по миру в коллекциях. Он сконцентрирован в нескольких точках: в Москве в Третьяковке, в Голландии в музее Ван Аббе, в Центре Помпиду в Париже, в MOMA в Нью-Йорке и в Институте Гетти в Лос-Анджелесе. И очень много у частных коллекционеров.
А есть тайный каталог частных коллекционеров?
Если бы! Его, к сожалению, не существует. Я бы отдала очень большие деньги за подобный каталог. Есть каталоги выставок, в которых экспонаты когда-либо участвовали. Это огромное исследование. И еще такой нюанс: есть частные коллекционеры, которые гордятся своей коллекцией, часто ее дают. А есть коллекционеры, которые, наоборот, шифруются и домой к себе пускают лишь нескольких кураторов мирового значения. Я знаю, что на выставку Роя Лихтенштейна в Тейт были выданы экспонаты, которые потом были не выданы в Институт искусств Чикаго. Потому что они были выданы определенному человеку. Я Маша Насимова — мне не дадут. А придет Джермано Челанто — ему дадут. Здесь большую роль играет личное отношение.
То есть теоретически у вас должны быть амбиции стать куратором, который заходит в любой дом и ему дают все, что он ни попросит.
Нет. У меня амбиции локального уровня. Мне не хочется быть мировой звездой. Это накладывает на тебя слишком много ответственности. Ты не имеешь права на ошибку. А мне бы не хотелось, чтобы какую-то мою выставку в мировом сообществе обсуждали как «самое худшее, что могло бы в принципе случиться в жизни».
Суровое мировое сообщество?
Конечно. Никто никого не жалеет. Особенность арт-сообщества заключается в том, что все помнят все. Тебе вспомнят ту выставку. Я хотела бы оставить себе шанс на ошибку. Мои амбиции заканчиваются Москвой. Мне очень хочется открыть здесь музей послевоенного западного искусства. Сегодня в городе нет музея, где была бы коллекция Уорхола и Лихтенштейна. Или Люсьена Фрейда. Ни поп-арта, ни арте повера — ничего. У нас все западное искусство заканчивается ранним ХХ веком в Пушкинском. А мне бы хотелось, чтобы в Москве был музей, который мог бы дать людям минимальное представление о том, что такое искусство XX века. Не за счет только привозных выставок и глобальных вложений в эти выставки, потому что они стоят очень дорого. А чтобы можно было прийти в музей и посмотреть и на русский авангард, и на футуризм, и на поздние течения. Мне кажется, это очень важно. А еще, как мне кажется, в Москве не хватает музея авангарда, который был бы посвящен только первой половине XX века. Понимаете, авангард — главный экспортный продукт России с точки зрения искусства. Все знают, кто такой Малевич. Все знают, что русский конструктивизм — это мощь. Конечно же, есть Третьяковка на Крымском Валу, но, на мой взгляд, этого мало. У нас же нет ни одного музея, который был бы назван был именем Малевича или Татлина и работал бы исключительно с авангардом. Выпускал книги, сделал бы библиотеку, лекционную площадку. Это определенный период, которым Россия должна невероятно гордиться и всячески демонстрировать его. Поэтому, на мой взгляд, если бы два таких музея появились в Москве, было бы нам всем счастье.
Как можно сделать плохую выставку? В чем секрет?
Я никогда не могу оценить свою выставку. Мои выставки мне нравятся ровно до момента открытия. После того как они открываются, я их ненавижу, потому что я их пережила. Каждая выставка делается не меньше полугода. Ты эту идею вынашиваешь, ты ее видишь с первых моментов — как она будет стоять в пространстве, что конкретно ты покажешь, к кому ты пойдешь просить экспонаты. Потом ты ее готовишь-готовишь-готовишь, делаешь каталог, видишь графический дизайн, видишь архитектуру, видишь тексты. У тебя уже есть список экспонатов. И вот ты ее монтируешь — это самый счастливый момент, сладостный. Сейчас твоя идея превратится в реальность. Открытие — и все. Выставка больше для меня не существует. Она прошла, я ее сделала, она внутри меня перестала существовать.
А плохую выставку можно сделать легко. Не обратиться к музеям и собрать все только из частных коллекций. Не спросить специалиста, знатока.
Просто собрать картины и развесить их — это плохая выставка?
|
|
На мой взгляд, да. Должно быть затронуто что-то еще — определенный период или определенная тематика. Возьмем Шагала — он менялся, эволюционировал в своем творчестве. Он начинал с одного и закончил другим. Парижский Шагал и российский Шагал — это два разных художника. И показывая что-то, ты не можешь повесить все, что ты нашел, рядом. И сказать: «Вот он — Шагал». Нет. Выставка — это как книга, только она в 3D-формате. Соответственно, сделать выставку — это примерно то же, что написать книгу. Ты идешь от каких-то тезисов, ты предполагаешь текстовое наполнение, что ты хочешь сказать своими тезисами в картинах. И ты уже показываешь этот посыл. В книге ты его пишешь. Книгу не так интересно читать, как смотреть выставку, на мой взгляд. Потому что большинство людей визуалы.
Как приходят идеи выставок?
Они могут прийти в любой момент. У меня есть «могильничек», в который я прячу эти мысли. И когда мне нужно, я его открываю и их оттуда достаю. Вообще я программный куратор. Помимо того что я курирую выставки, я работаю над программой. На каждой выставке может работать специально нанятый куратор, но саму художественную линию и последовательность экспозиций продумываю полностью я. Поэтому меня часто озаряют идеи типа «вот сюда хорошо бы поставить фотовыставку, а сюда — соло-выставку еврейского художника».
Какая ситуация с кураторами в Москве?
Делим на две части — до распада СССР и после. До распада СССР кураторы — это историки. В крупных отечественных музеях кураторы разделены по знаточеству. Знатоки Серова, знатоки Лисицкого, Малевича и т. д. Это люди, которые знают период или определенного художника от первого вздоха и до последнего. И есть кураторы моего поколения, которые к кураторству относятся немножко по-другому. Это чаще не историки. Это в первую очередь визионеры, медиаторы между искусством и посетителями, которые смотрят и собирают определенную картинку, обращаясь при этом к историкам. Про себя могу сказать, что отношусь к этому типу. У меня, конечно, есть искусствоведческое образование, но я не являюсь знатоком определенного периода. Кураторов этого нового поколения довольно мало в Москве, но они есть. Историков, наоборот, гораздо больше. И они суперпрофессионалы. Обидно, что они не всегда на виду. И чтобы к ним добраться, нужно копать. Они живут внутри своего музея.
А у вас возникало когда-нибудь желание изучить кого-то от первого вздоха до последнего?
У меня есть огромное желание изучить полностью отечественный авангард. Но я понимаю, что как только я его изучу, мне он перестанет быть интересен. Он мне будет приятен, он мне будет так же нравиться, но я захочу изучить что-то еще, например футуризм. Поэтому я пока это желание в себе останавливаю. Стать историком я, к сожалению, уже не смогу, потому что у меня есть внутренний двигатель, который меня заставляет делать по 15 выставок в год.

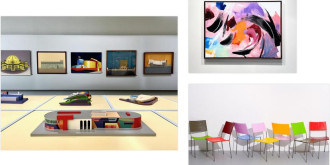









 Вдовой Роя Лихтенштейна быть просто невероятно хорошо.
Вдовой Роя Лихтенштейна быть просто невероятно хорошо.














