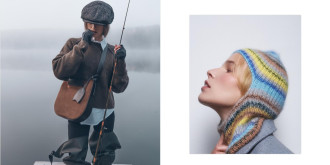«Мои герои живут в ощущении войны»

26-летний Кантемир Балагов стал главным открытием Каннского фестиваля. Его дебютная картина «Теснота» была представлена в программе «Особый взгляд» и получила приз Международной федерации кинопрессы ФИПРЕССИ. В России картину тоже оценили: гран-при фестиваля «Зеркало» и приз «За лучший дебют» «Кинотавра». Правда, широкий зритель, который «Тесноты» еще не видел, заранее осудил ленту. Критики говорят, что фильм порочит Северный Кавказ и поднимает темы, которые принято считать давно закрытыми. Специально для «РБК Стиль» с молодым режиссером поговорила журналист Катерина Гордеева.
— Я в детстве довольно много времени провела в Кабардино-Балкарии: два-три раза в год ездила на сборы в спортивный лагерь на Чирик-Кёль (Голубое озеро). Обычно мы ехали через Нальчик, и пару дней проводили там. «Теснота» вернула мне странное ощущение, которое в детстве точно и не сформулируешь: вокруг нет ничего враждебного, но ты чувствуешь себя чужеродным, если ты …
— Не местный?
— Да.
— Это и сейчас есть. Хотя, думаю, сейчас бы вы почувствовали эту чужеродность менее остро.
— Почему?
— Все становится более размытым. И людей — меньше. Большинство уезжает из Нальчика, в особенности молодые. Едут все: и кабардинцы, и евреи. В Москву, в Америку, в Израиль. В общем-то даже неважно — куда. Важно — уехать. Потому что развиваться стало практически невозможно, а для молодых людей это тупик.
Я до Мастерской Сокурова и после — это два совершенно разных человека
— Если бы в вашей жизни три года назад не случилось Мастерской Сокурова, вы бы тоже уехали?
— Мне особенно некуда было. Наверное, я бы просто получил какое-то образование: экономическое или юридическое, получил какую-нибудь должность в офисе. И доживал свою жизнь до старости.
— Чем для вас стала Мастерская Сокурова?
— Боюсь, я не смогу сформулировать. Это совершенно другой мир. До мастерской мы даже представления не имели, что этот мир существует, какой он. Знаете, как в большинстве случаев получают образование у нас на Кавказе? Все происходит не вполне осознанно: молодые люди просто идут «куда-то», чтобы потом получить «какую-то» работу. В детали никто не вдается, да они и неважны. Я вам честно скажу, когда мы попали к Александру Николаевичу, мы же вообще не представляли, кто это такой. Да я и сам не знал. Погуглил перед встречей, да и пошел. Я до Мастерской Сокурова и после — это два совершенно разных человека. Наверное, вам трудно в это поверить, но это так.
— А зачем, по-вашему, мастерская была нужна Сокурову?
— Понимаете, Александр Николаевич — очень ответственный гражданин своей страны, вот именно гражданин России. И, зная, какой низкий культурный уровень на Северном Кавказе, а кто бы как ни хотел, это — часть России, Сокуров считает своим гражданским долгом сделать все от него лично зависящее, чтобы эту ситуацию изменить. Он не считает это подвигом, он считает это долгом.
Я не чувствую почву под ногами, когда нахожусь на Северном Кавказе
— А какое ваше чувство долга по отношению к малой родине? На первых кадрах «Тесноты», кадрах Нальчика, сразу говорится, что вы отсюда родом и эта история — очень личная. То есть вы — патриот?
— Не думаю, что это так. Я, к сожалению, не чувствую сильной привязанности к месту. Я не чувствую почву под ногами, когда нахожусь на Северном Кавказе, в Нальчике. Как-то спокойно к этому отношусь. Но, хочу я этого или нет, эта земля — часть моей биографии. Я здесь родился и вырос. В фильме нужен был контекст того, что я имею непосредственное отношение к этой истории, к этой территории, чтобы зритель понимал, какая степень откровенности его ждет.
— Насколько, по-вашему, проблемы Северного Кавказа, где и с национальной, и с религиозной точки зрения все обстоит немного иначе, чем, скажем, в центральной России, касаются всей страны?
— Я часто слышу призывы «оставить Кавказ в покое» и дать ему существовать самостоятельно, на своей волне или как-то так, имея в виду, что это — не Россия. Но мне кажется, если так поступить, Кавказ сам себя погубит. Ни в коем случае нельзя Кавказу давать существовать самостоятельно. Но надо менять существующий закрытый порядок вещей. Единственный способ менять — через культуру. Дать понять представителям России, что у кавказских людей есть культура, они могут слушать, смотреть и чувствовать так же, как и другие представители России. Но такого не происходит. Смотрите, например, когда речь идет о Гергиеве, все говорят — он великий дирижер. Точка. Темирканов — великий дирижер. Тоже точка. То есть, важно его творчество, а не то, что он кабардинец. Понимаете, чтобы изменилось отношение к Северному Кавказу, на самом Северном Кавказе тоже что-то должно перемениться. Нужен какой-то культурный, интеллектуальный прорыв. Нужно как-то выбираться из того безвременья, в котором мы тут застряли. Ведь дело не только в том, что у нас нет центров досуга для молодежи. Есть какие-то театры, кинотеатры, куда можно пойти. Но репертуар там из начала двухтысячных, а постановки в театрах — унылые и неинтересные. К ним не подпускают молодых ребят. Это такая традиция. На Северном Кавказе есть четкая иерархия: пока ты не вырастешь, не состаришься, не дойдешь до какой-то определенной ступени, тебе никто никогда ничего не доверит и не даст сделать. Старшее поколение, которое всем руководит и занимает ключевые посты, в том числе и в культуре, ориентируется исключительно на свое прошлое. Ничего в контексте современности у нас нет. Я все понимаю: есть традиции, которых все привыкли придерживаться. Но есть еще и будущее.
— В Кабардино-Балкарии 70% населения — мусульмане. Насколько остро стоит проблема взаимоотношений мусульман и немусульман?
— Сейчас уже не так остро. Остро было в 2005-м, когда боевики пытались захватить Нальчик. И в этот момент чувства недоверия и опасения к мусульманам были очень сильны. Стали всех под одну гребенку мешать: если ты молишься, значит ты или боевик, или террорист. Со стороны правоохранительных органов были целые рейды в мечетях. Заходили, забирали молящихся, ставили на учет и, если что-то происходило, по поводу и без повода кого-то обвиняли. Тогда все всего боялись, и это било по людям. Мои родители, например, боялись, что я попаду под влияние радикалов. А нормальные мусульмане — обвинений в радикализме. Этот страх держался, наверное, года до 2007. Потом поутихло. Сейчас, стоит отдать должное главе республики, никаких конфликтов, никаких терактов у нас нет.

— 13 октября 2005-го журналистом Тамерланом Казихановым была, кстати, сделана видеозапись, ставшая одним из самых страшных свидетельств того, что происходило в Нальчике. Тамерлан руководил пресс-службой антитеррористического центра Главного управления МВД РФ по Южному федеральному округу. И когда здание центра начали штурмовать, он взял камеру и начал снимать. Он снимал после того, как его ранили в ногу…
— А потом в него выстрелил снайпер. Я помню эту историю.
— Камера продолжила снимать и после гибели Тамерлана.
— Это была очень громкая и страшная история в жизни города, об этом много говорили. Мы вообще очень много пережили в те дни. Сам я не находился в эпицентре событий, потому что учился в 11-й школе, которая была в районе Александровка, где боевиков практически не было, они сконцентрировались в центральной части города. Но моя мама работала в 5-й школе, в самом центре, рядом с гостиницей «Россия». Есть документальные кадры, как боевики пытаются захватить отдел милиции, который рядом с маминой школой. Я помню, как переживал за мать, как пытался выбраться в город, но меня не пустили. Мама смогла убежать, вернулась домой. Но мы пару недель жили в жутком страхе: постоянно над головой летали самолеты, нам отключали свет, было полное ощущение войны. Я его помню.
— Ваши родители — мусульмане?
— Наша семья позиционирует себя как мусульманская, но никто не молится, намаз не делает. Дальние родственники есть, которые молятся. Но мама и папа — нет.
— Есть ли трудность примирения с мыслью о том, что вот ты — мусульманин, с одной стороны? А с другой — люди, которые захватывают твой город и убивают твоих близких — делают это с именем Аллаха на устах.
— Это интерпретация. Не могу сказать, что я полностью прочел Коран, но в том, что я читал, не было никаких прямых указаний к убийству людей. Нигде не было ни намека на то, что убийство каким-то образом поощряется. Для меня большая проблема состоит в том, что для многих людей из-за всего того, что тогда у нас происходило, того, что происходит сейчас в разных местах мира, религиозные мусульмане ассоциируются с угрозой. Это болезненный вопрос. Мне трудно говорить на эту тему, потому что у меня есть друзья, очень верующие мусульмане, — одни из самых миролюбивых людей на свете. Однако, живя в Москве, они сталкиваются с непониманием и высокомерным отношением к себе. Знаете, почему? Только потому, что они молятся!

— Один из сильнейших эпизодов фильма — хроника казни боевиками российских солдат. Из-за достоверной манеры, в которой снята «Теснота», эта документальная пленка становится центральным, страшным, но тем не менее органичным эпизодом, хорошо показывающим природу жестокосердия, охватившего регион в 90-е. Как по-вашему, в какой момент происходит поломка, после которой человек начинает думать, что все, кто на него не похож — враги?
— Сама сцена, в которой герои смотрят эту хронику на кассете, была придумана и прописана еще на стадии сценария. Я понимал, что это нужно для истории, для того чтобы передать контекст времени и места. Один из важных моментов «Тесноты» заключается в том, что мои герои живут в ощущении войны. Чечня, сами знаете, не так далеко от Кабардино-Балкарии. Все, что там, в любой момент может перейти на нашу территорию. В общем, этот эпизод мне был нужен. Но это не просто эпизод. Это то, что я пережил сам. Это моя история. Где-то в 2002 году, когда я еще был школьником, ко мне подошел мой друг и сказал: «У меня есть одна запись, пойдем к тебе, посмотрим». У меня был средненький компьютер, но — редкость на тот момент — там был дисковод. И мы стали смотреть. Это была видеозапись казни, похожая на ту, что вы видите в фильме. Я хорошо помню первое свое впечатление — увиденное поражает настолько, что ты сидишь как парализованный. Ты толком не можешь понять, что сейчас произошло, но оторваться тоже не можешь. Мы не смаковали подробности, если вы об этом хотите спросить, но мы пересматривали эти записи по многу раз. Это парадоксально, это необъяснимо, но это очень яркое проявление нашей, человеческой, двойственности: смесь страха, ужаса и любопытства, связанного с жизнью, смертью, жестокостью и, возможно, неумением ни то, ни другое толком объяснить на своем уровне.
— Эта запись была первым опытом того, как вы увидели человеческую смерть?
— Да. Но важным было и то, что эту смерть людям причиняли люди.
— Откуда вообще взялась хроника, которая используется в фильме?
— Я ее нашел в открытом доступе в интернете. Она до сих пор там есть.
— В тележурналистике запрещено показывать сцены казни. У вас были, например, в Каннах, проблемы с тем, что вы так подробно показали смерть русских солдат в своем фильме?
— Оказывается, были. Но я сам об этом узнал недавно и очень удивился: один из членов жюри был настолько возмущен демонстрацией этой пленки, что пошел чуть ли не к президенту фестиваля и начал выяснять, что это такое вообще было. Именно в момент демонстрации этой записи люди вставали и выходили с показа. Но самые интересные комментарии были на «Кинотавре». Мне говорили: «Зачем это было вообще снимать, зачем эту сцену ставить, зачем вообще возвращаться к этому? Ну было и было, пострадали и хватит».

— Насколько принципиальным был момент, что среди кабардинцев и русских, которые смотрят эту видеозапись, которые вообще живут в городе Нальчике, о котором идет речь, оказалась еврейская девушка Ила? Могла бы она оказаться армянской девушкой? Или русской?
— Для искусства вы имеете в виду?
— Да.
— Для меня, как для режиссера и автора фильма, было принципиальным, что Ила, ее семья — это евреи. Не для того, чтобы «выехать» на еврейской теме и, как говорят, поехать в Канны, потому что там сразу дают призы всем фильмам, которые сняты про евреев. Нет. Для меня было принципиально важным столкновение двух народов, которые стараются сохранить свою культуру, корни и традиции. Большинство евреев, кабардинцев и балкарцев очень похожи в этом плане. Кабардинцы озабочены тем, чтобы представитель кабардинской национальности женился именно на кабардинке и стараются следовать Хабзэ (кабардинский кодекс чести — прим. ред.).
То же у евреев: они озабочены сохранением корней и пытаются выдавать замуж или женить детей только на своих. Это границы, стесняющие тех, кто оказывается внутри них. И основной конфликт в том, что еврейка Ила готова переступить через эти границы, а ее парень, кабардинец Залим — нет. В большинстве своем кавказские мужчины вообще слабее в плане каких-то поступков, которые идут наперекор традициям, культуре, территории. Они не способны переступить через общепринятое.
— Но именно Ила в итоге оказывается жертвой семейных традиций и ценностей.
— Я хотел поставить под вопрос главную аксиому любой семьи: должен ли член семьи априори жертвовать собой ради своих близких. Мне было интересно, насколько вообще гуманно со стороны родителей просить детей о какой-либо жертве. Лично для меня это не вполне приемлемо. И я попытался передать это героине. Вопросы, перед которыми оказывается Ила, — это мои вопросы. Решения, которые ей приходится принимать — те, которые я пытался, пытаюсь принять. Я пытаюсь говорить откровенно сам с собой и отвечать себе, в первую очередь, максимально честно. Только так, как мне кажется, появляется художественный смысл. Ила бунтует, как бунтуют обычно молодые люди. Этот бунт не всегда здоровый, но он присущ возрасту. И, когда мы разрабатывали сценарий, мне было важно показать, что ей тесно: в семье, в возрасте, в обстоятельствах. И она пытается выбраться. Отсюда соотношение кадра, отсюда — танец на дискотеке, когда ей тесно в помещении, в музыке, среди людей и она пытается сама себя вытеснить.
— И теряет голос.
— Это цена жертвы, которую ей предстоит принести. Это такой образ — на Кавказе женщины не имеют права голоса. И все это вместе — теснота — места, времени, обстоятельств, правил, клана, рода, семьи.
— Насколько трудной задачей было воссоздать Нальчик конца 90-х?
— Вы не поверите, но в большинстве своем мы просто не трогали то, что уже нашли. Мы отыскали дом под Питером, в Суоранде. В нем — просто поменяли обои под цветовую драматургию, которая была нам необходима, занавески перевесили, чтобы расставить световые акценты. И все. Эту картину сложил лучший художник на свете — жизнь, как с ним спорить?
— Успех «Тесноты» уже каким-то образом отмечен у вас на родине? Возможно теперь, вернувшись с призами со всех фестивалей, на которых прогремела картина, вы смогли бы что-то сделать, чтобы переменить культурную ситуацию дома.
— Не знаю. Не уверен. По крайней мере, со стороны официальных представителей Кабардино-Балкарии никто на меня не выходил, никто ничего мне не говорил.
Хочу самому себе доказать, что история с «Теснотой» — это не только везение, а был какой-то профессионализм, чутье или еще что-то
— Но права на показ куплены одной из местных киносетей.
— Да, это так. Посмотрим, как все это будет происходить.
— А кому-то в Нальчике вы уже показывали картину?
— Родителям и родственникам.
— Что говорят?
— Я не уверен, что им все было понятно, но говорят, что понравилось. Но, думаю, это из-за того, что они мои родственники и оберегают меня и любят. Я им за это благодарен. Они понимают, какой будет реакция у большинства. Хотя, я надеюсь, что все-таки и большинство поменяет свое мнение, потому что на том же «Зеркале» на показе «Тесноты» был представитель Северного Кавказа, человек из Дагестана, который пришел специально на фильм с заранее негативным настроем. Он планировал, что в конце встанет и скажет, что картина оказалась настолько плохой, насколько он себе и представлял. Но он досмотрел до конца и сказал честно, что полностью поменял свое мнение. И еще, что ему есть над чем подумать в этом фильме. Надеюсь, он такой не один. И жду того, что будет. Понятно же, что показ на Северном Кавказе для меня намного важнее, чем показы в центральной части России, потому что это фильм о той территории, о том времени и о той земле, на которой я родился.
— А в Европе всю эту сложность Северного Кавказа поняли?
— К моему удивлению — да. История получилась универсальной. Возможно, это связано с тем, что Франция не понаслышке знает, что такое жить в соседстве с представителями мусульманской культуры, что такое конфликты, в которые вплетены разница культур и религий.
— Насколько вам было вообще комфортно в Каннах? Я смотрела фотографии, ваша съемочная группа, мягко говоря, сильно отличалась от других, привычных к красным дорожкам и фотовспышкам.
— Было, конечно, ощущение, что это, скажем так, не моя среда. Я не привык лицом торговать. Меня даже одна корреспондентка обвинила: «Что же вы мне ручкой не помахали, как мы договаривались».
— Почему не помахали?
— Растерялся. Хотя я ведь до этого уже был в Каннах. И тогда как-то принял для себя, что все это — лишь ярмарка тщеславия: люди приезжают показать не фильм, а самих себя.
— Легко вам даются эти правила индустрии?
— Стараюсь привыкнуть, но это все, конечно, непросто. Очень устаешь. И очень отвлекает от работы.
— Насколько для вас важно то, что вы — ученик Сокурова?
— Важно. Я до конца своих дней, наверное, не смогу поверить, насколько нам повезло, что нашим мастером был именно Сокуров. Александр Николаевич пытался сохранить в каждом из своих учеников индивидуальность. Отчасти из-за этого он запрещал нам смотреть свои фильмы или фильмы других знаменитых режиссеров, только какой-то очень определенный список, который он лично советовал, чтобы знать, с чего все начиналось. И все время повторял: не смотрите кино — читайте.
— Успех «Тесноты» очень громкий. И это всегда риск для дебютанта. Боитесь?
— Я очень переживаю. Хочу самому себе доказать, что история с «Теснотой» — это не только везение, а был какой-то профессионализм, чутье или еще что-то. Но все же очень тревожно. Понимаете, мне 26 лет. Выходит, в течение них я копил эмоциональный опыт, какие-то впечатления, истории, которые я выплеснул в этот фильм. Все. А как теперь быть? Как следующий фильм — второй, третий, четвертый, как их сделать качественно?
— Вы свой второй фильм уже придумали?
— Я думаю над этим. Есть несколько вариантов. Но сейчас я сконцентрировался на истории про молодую женщину, которая возвращается с фронта Второй мировой войны в русскую деревню. Какие-то мотивы взяты из Светланы Алексиевич, из ее «У войны не женское лицо», какие-то — где-то еще. Уже сейчас эта история получается не такой, какой я ее задумал изначально. Не знаю, как будет дальше, и очень переживаю: про послевоенное время столько всего снято, что есть шанс, что это просто будет очередной поствоенный фильм. В общем, пока могу сказать, что я очень загнался, но все равно пытаюсь что-то придумать.
— Вы чувствуете, что за вашей спиной все равно есть мастер — Сокуров и вы можете спросить у него совета, обратиться к нему за поддержкой?
— Я почти всегда и во всем советуюсь с Александром Николаевичем. И каждый из мастерской знает, что когда вот прямо совсем тупик, можно прийти — и Александр Николаевич всегда сильно помогает.
— Сокуров приехал в Нальчик, взял курс, состоящий из ребят исключительно из региона. У вас есть какие-то обязательства, связанные с тем, чтобы применить полученные знания именно на родине?
— Из мастерской в итоге выпустилось 12 человек. 12 учеников Сокурова. Конечно, Александр Николаевич, думаю, хотел бы, чтобы мы все работали в итоге на родине, чтобы мастерская существовала и после, чтобы мы как-то помогали друг другу, поднимали культуру на Северном Кавказе. Но нам никто не помогает. А мы самостоятельно это не сможем сделать. Никакой заинтересованности в нас нет. В итоге, почти все мы разъехались: Германия, Италия, Питер, Москва... Можно подумать, что мы уехали из Нальчика потому, что где-то за его пределами намного легче найти деньги. Но нет. Еще тяжелее. Потому что в нас вообще никто не заинтересован в той же центральной России. Ну, сами посудите, кому из московских продюсеров интересно вкладывать в фильм, который происходит в Нальчике, в Северной Осетии, в Чечне или в Ингушетии и так далее? Никому.