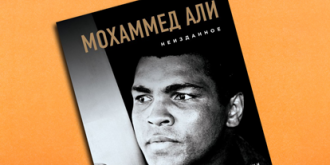«Укрощение красного коня»: отрывок из книги Юлии Яковлевой

Юлия Яковлева, историк балета и критик, после успеха цикла «ленинградских сказок» о сталинском терроре в стиле магического реализма взялась за «криминальное ретро». «Мне очень хотелось прочитать такую книгу — и поэтому я ее написала», — отмечает Яковлева. Она перенесла в Ленинград 30-х годов классический детективный сюжет и столкнула логику следствия (убийство — улики — подозреваемые — доказательства) с липким страхом времени чисток и большого террора, где связь между виной и наказанием окончательно потеряна.
В первой книге цикла «Вот охотник выбегает» молодой следователь уголовного розыска Василий Зайцев разбирался в серии странных убийств, которые оказались причудливым образом связаны с пропажей из «Эрмитажа» ценных картин. Новое дело — «Укрощение красного коня» — приводит следователя Зайцева в кавалерийскую школу, где учатся будущие красные маршалы: Жуков, Рокоссовский и Конев (все они так или иначе фигурируют в деле, пусть и под вымышленными именами). Дело в том, что Василий Зайцев расследует гибель фаворита всех забегов, знаменитого орловского рысака по кличке Пряник и его наездника Жемчужного, по совместительству инструктора ККУКСа (Кавалерийских курсов усовершенствования командного состава). Пока Зайцев пытается понять, почему уголовный розыск вообще вызвали на ипподром, кто подсуетился быстро провести судмедэкспертизу, а кто всеми силами старается, наоборот, закрыть дело, кавалеристы спешно съезжают в Новочеркасск. Глава уголовного розыска и ГПУ товарищ Коптельцев подписывает Зайцеву командировку в степь, житницу Союза, и даже выделяет дополнительного сотрудника — странную, всю дорогу читающую «Тихий Дон» Зою Соколову. В это лето Василий Зайцев поймет немало о жизни своей страны: голод, раскулачивание, набирающий обороты большой террор, энкавэдэшные списки, противостояние двух красных командиров — Буденного и Тухачевского — и не зависящие от времени страсти и страстишки.
«Криминальное ретро» Юлии Яковлевой по-прежнему доставляет удовольствие. Но, скажу честно, ожиданий, оставшихся после первой книги, не оправдывает. Всю историческую составляющую Яковлева и в этот раз выписала детально, образно и живо. Но вот детективная линия в «Укрощении красного коня» хромает на все четыре ноги породистого орловского рысака. Скомканный ход расследования, притянутая за уши, очевидная и при этом необоснованная развязка, множество брошенных деталей и неувязанных улик. Если в первом романе Ленинград 30-х был выпуклым и атмосферным, но все-таки фоном для детектива, то теперь само уголовное дело превратилось в крашеный задник для театрального этюда о становлении советского государства. Понятно, что, оставляя «лишние» детали, Яковлева перебрасывает мостики к новым делам Василия Зайцева — в серии обещана легенда о панфиловцах, провокации советской власти против церкви, ужас блокадного Ленинграда и тайны Лубянки. Но, как автору детективов, Яковлевой далеко до мастерски просчитывающего ходы на пару книг вперед Ю Несбё — «дело красного коня» шито белыми нитками и наспех оборванные «хвосты» выглядят неряшливо. Покрошить все улики в неправдоподобный, но яркий и сочный винегрет, как это делает Жан-Кристоф Гранже, Яковлева тоже не смогла. И даже не сумела выстроить в «Укрощении красного коня» странную, но убедительную логику преступления, как ранняя Маринина. Детективная конструкция проседает, провисает и разваливается на части. И это непростительно, когда замахиваешься на серию, которую читатели будут «хранить вечно».
Отрывок из книги «Укрощение красного коня»:
Зоя спала на страшном, продранном в нескольких местах диване, натянув шаль с розами по самый подбородок. Окно было заполнено чернилами от рамы до рамы — непроглядная новочеркасская ночь. От зеленого колпака лампы на столе лежал круг света. Взгляд Зайцева лип к нему, как мотылек. Задремать не получалось. «Надо будет, и весь курс под трибунал пойдет». «Расстрел». «Незаменимых нет». Неужели решатся? И понимал: да.
Как все пройдет? Кто расстреливать будет? Позовут соседних красноармейцев? Хозяина смешного индюка тоже? Потом он вечером придет к жене, своей симпатичной Татьяне Григорьевне, которая умеет держать в руках винтовку. Сядут за стол. «Тяжелый был день». — «Выпей еще чаю, дорогой». Бред.
Или выпишут особую расстрельную команду? Или товарищ Емельянов сам почтет за честь?
Когда? Утром, вечером, завтра, через неделю, подержав для приличия на гауптвахте?
Всех? Только курсантов-смутьянов? Только Журова? Только преподавателей? Товарищу Тухачевскому лучше знать, от кого расползаются настроения. Рыба гниет с головы.
Кури, не кури — пуле все равно, вспомнил он Артемова. Какая странная смерть. Пережить войну. Одну, другую. Империалистическую, гражданскую. И быть расстрелянным как собака. Своими же. Да нет же, не своими. Есть они. А есть мы. Только кто эти мы?
А если б до него первым дошла очередь? Что бы он ответил?
Невыносимо.
Зоино лицо белело твердым камешком.
Стараясь не шуметь, не скрипнуть стулом, Зайцев ногой придвинул к себе ботинки. Обулся и вышел.
Зал ожидания был наполнен обмершими душами в ожидании страшного суда. Зеленовато-желтый свет на лицах. Закрытые глаза, открытые рты, подобранные или разметавшиеся руки. Над скамьями — как днем гул голосов — теперь висел колеблющийся сон людского множества. Развернулся калач собаки. Пес сонно глянул на Зайцева — в уголке глаз белело дополнительное веко. И опять свернулся. Зайцев ступал тихо. В кармане пиджака тяжело булькало: забыл выложить бутылку. Возвращаться в канцелярскую духоту кабинета, чтобы оставить ненужный пузырь, не хотелось. Как и пытаться уснуть. Ночь все равно пропала. В поезде выспится. И в поезде чай.
От окон, стекол на дверях на траву ложились бледно-желтые квадраты света. Чернели причудливо вырезанные аппликации деревьев. Было свежо и душисто. Над ступенями медленно плавал туда-сюда рубиновый огонек: затяжка — невидимый дым, снова затяжка.
Зайцев остался в тени. Ночной треп с незнакомцами его сейчас не интересовал. Хотелось побыть в одиночестве. «Повыть на луну». Он посмотрел: новочеркасская луна поражала желтизной, как выдержанный сыр. В Ленинграде она почему-то несъедобная, фосфорная. Рубиновый огонек описал дугу, как падающая звезда.
Брызнул искрой, ударившись оземь.
— Товарищ Зайцев.
Зайцеву показалось, что это все: ночь, вокзал, деревья, треск насекомых — ненастоящее. А настоящее: мертвецкие лица грешников вповалку, ад и Цербер, спящий калачиком. Тот свет. Перед ним стоял Журов.
Не расстрелянный. Не под арестом. «В бегах?» — предположил напоследок Зайцев.
Журов ухмыльнулся.
— Встреча у фонтана.
Протянул папиросы. Зайцев помотал головой.
— Я думал, вы под арестом. — Журов вместо ответа пыхнул сизым дымом. — Товарищ Тухачевский выглядел серьезно.
— Погладили товарища Тухачевского против шерстки, — с улыбочкой пояснил Журов. — Усы. Разговор был телефонный, но пылкий. Товарищ Тухачевский ошибочно предположил, что может закрыть Кавалерийские курсы как не соответствующие историческому моменту. Не впервой.
— Поздравляю тогда. А вы?
Журов махнул папиросой.
— А я — в Забайкальский гарнизон. Дисциплинарное. Я на Усы не в обиде. Все-таки надо было изобразить наказание. Перевод в двадцать четыре часа. Поезд через два. Да ерунда. Ознакомлюсь с бурятскими — или какими там? — монгольскими лошадками. Тоже дело.
Огорченным он не выглядел. Что там думал Журов на самом деле, было глубоко упрятано и заперто на замок.
— Может, оно так и к лучшему, — не стал напирать на эту дверь Зайцев.
— Это точно. От обеих баб моих подальше.
Зайцев поразился легкости, с какой Журов сам заговорил о своей тайне. Понял: в этой темной, смутной и душистой ночи под крупными южными звездами, которые и не снились Канту, Журову не хотелось отпускать его, случайного собеседника. Хотелось поговорить. Видимо, желание быть откровенным все-таки нашло себе безопасное русло: выражаясь языком комсобраний, «моральный облик».
— Женаты сами-то?
— Нет.
— Чего так?
— Служба.
— Чего там. Не хуже прочих служба, — не поверил Журов.
— Недавно выезжали на вызов. Сторож зарубил топором собутыльника. И спать лег рядом. Проснулся. Думал, что протрезвел. Разделал труп на куски, как тушу. Сложил в тележку. Взяли, когда он эти куски по одному в канал опускал. И это легкий случай: тут тебе сразу на месте и подозреваемый, и мотив, и убитый, и улики. ...Придешь вот так домой, а там жена в папильотках. Дети? Гладить их по голове?
Он пожал плечами. Журов слушал внимательно. Сбросил пепел. Помолчал.
— Не знаю. На гражданской я тоже видел кое-что. И с белой стороны, и с нашей. Тоже радости мало. Не советчик, но так скажу: все равно женись. Мужику нужны на шее жернова. Баба, дети. Да, тащить тяжело. Но без них улетишь. Жизнь такая. Закрутит, с ног собьет, унесет.
Зайцев почувствовал симпатию. Не любовная путаница, не слабость характера, которая бы мешала Журову развязаться со своими двумя женами, и даже не банальное «можно ли одновременно любить обеих». Журов навесил себе на шею один жернов. А потом понял: еще один. Чтобы потверже стоять на земле.
Чтоб не каждому злому жеребцу на спину вскакивать.
— Бабы-то не возражают?
— Возражают, — чистосердечно вздохнул Журов.
— Философии насчет жерновов понять не хотят? Надо назвать покрасивее. Жемчуга, например. А то — жернова...
Журов сел на ступеньки. Кивнул рядом.
— Тут коротко не поговоришь. Или есть другие дела?
Сел и Зайцев. В кармане стеклянно булькнуло, напомнив о себе.
— Есть неплохая идея, — сказал он Журову.
Товарищ Панкратов был не дурак. Зайцев вполне оценил его стратегию. Опытный и мудрый алкаш, алкаш с предохранителем. Чтобы не квасить по-черному, не сойти с круга, задал себе трудные границы — только импортное. Опыт Зайцеву понравился. Качество импортного свинобоя не оставляло желать ничего лучшего на этом свете.
Он не очень помнил, как они с Зоей сели в поезд. Крутые ребра реальности приятно подтаяли, углы жизни блаженно смягчились. Руки мотались легко. Зоино ледяное презрение смешило. Как и собственные ноги, которые шли не туда. В купе сразу повалился спать. Проспал весь день. Обнаружил за окном малиновый закат. Ужаснулся: всю ночь теперь куковать.
Зоя обдала его морозным взглядом. Но консервная баночка перед ней, из пайка товарища Журова, была пуста, а кирпичик армейского хлеба — подщипан с одного конца. Консервы и хлеб Журов всучил ему почти силком — уже на темном перроне, когда его паровоз выпростал пышный рукав белого дыма и дал свисток. Сунуть еду обратно Зайцев уже не успел.
— Не свались под поезд, милиция! — захохотал Журов, чуть не упал сам и, махнув на прощание рукой, втащил себя за поручень в вагон — под неодобрительный взгляд кубообразной проводницы.
— Нажрались, — прошипела Зоя. И вышла с прямой шеей.
Они были на пути в Ленинград. Роли вернулись: конторская фифа с передовыми принципами — недалекий мильтон с домостроевскими взглядами. Зайцев снял рубашку и брюки, блаженно ощущая всем телом холодок крахмальных простыней. И не успев ни как следует ужаснуться утренним перспективам («вот завтра-то башка треснет»), ни обежать мысленно ночной разговор с Журовым, снова провалился в темноту. И в темноте этой не навестили его ни обессилевшие скелетики с распухшими животами, ни отчаявшиеся матери с ввалившимися глазами и руками-цевками. Ни Пряник, ни Жемчужный, ни курсанты, ни Артемов, ни товарищи Буденный и Тухачевский, ни собаки. До самого утра.
Тушенка в дрожащих желатиновых каплях, черный хлеб и горячий чай на завтрак показались ему пищей богов.
Зоя глянула строго раз, другой. Потом лицо ее смягчилось.
— Вам плохо? — сочувственно спросила она.
«Ну и видок у меня, наверное», — подумал Зайцев.
Перекатил непрожеванное за небритую щеку и ответил честно:
— Как ни странно — хорошо.
Да, импортный коньяк — это вещь. После приятельства с отечественным продуктом он бы проснулся с ощущением, что в голове топор. Мысли были легкими, ясными. А может, все дело было просто в том, что он, наконец, выспался — наконец, кто-то отключил жару за окном.
Зоя глядела веселей. Словно приближение к Ленинграду тоже наполняло ее силой.
Она даже слегка улыбалась, поглядывая в окно.
— Чему вы улыбаетесь?
— Разлука все расставит по своим местам.
Очевидно, остатки дорожной интимности еще болтались на дне, и она, как Журов, спешила распить их с собеседником, которого вскоре покинет навсегда.
— Верно? Что, товарищ Зайцев? Скажете, я не права?
— В целом — да. Главное, чтобы места оказались как надо.
— То есть?
— Разлука расставляет, да. Но не факт, что туда, куда нам хочется.
— А что?
Начинать следовало осторожно.
— Может, ваш герой, посидев без вашего очаровательного общества, все взвесил — и решил вернуться к жене. Партийная карьера, знаете ли, моральный облик. Дело большое. Такие вопросы романтическим наскоком не разрубаются.
У Зои презрительно дрогнуло лицо. Но она ничего не сказала. Зайцев приободрился.
— Вы бы не спешили к нему на крыльях любви. Позвоните сначала. Прощупайте почву, — принялся советовать он. — Как бы невзначай.
— Много вы понимаете! В любви.
— Считайте, что я просто представляю собой мужской пол, — миролюбиво предложил Зайцев.
— Чушь! Мужчины и женщины — всего лишь люди. В вопросах пола и отношений между полами они одинаковы. В старину, может, и водились различия, насаждаемые и поддерживаемые охранителями, косными классами. Но сейчас...
Оседлав любимого конька, она в мгновение ока унеслась так далеко, что Зайцеву не оставалось ничего, как только дать обеими ладонями по столику. Подпрыгнули пустая банка, хлебные крошки и Зоины плечи. Она умолкла.
— Слушайте, вы... Вернетесь в Питер — и вы пропали!
— Что вы...
— Слушайте. Финтить я с вами не намерен. Дело ваше плохо. Хуже, чем вы думаете.
— Что вы несете?
— Я знаю об этом наверняка. И говорю вам прямо, польку-бабочку танцевать вокруг вас не собираюсь. Вас он отослал в эту поездку с надеждой, что вы сами все поймете и не вернетесь. Так поймите, наконец!
— Вы не понимаете... Вы хоть понимаете, насколько оскорбительны ваши слова? По отношению к человеку, которого вы никогда не видели. Человеку, которому вы и...
— Отослал — чтобы не видеть больше.
Она не верила его словам. Но тону, похоже, верила против собственной воли.